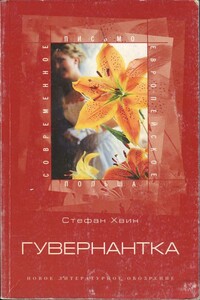Утром у него эрекция, и ему приходится отвернуться, ему приходится скрывать эти постыдные желания своего тела, чтобы она не увидела в них приглашения, попытки помириться, тяготения. Он отворачивается стене и священнодействует с этой своей эрекцией — бесцельной готовностью, напряженным побегом, — ни с кем ею не делится.
Кончик пениса, словно вектор, указывает вверх, в окно, в мир.
Ноги. Стопы. Даже когда он останавливается, садится, они идут дальше, двигаются виртуально, не в силах сдержаться, мерят пространство мелкими, торопливыми шажками. Сопротивляются, когда он хочет их остановить. Куницкий боится, что его ноги рассердятся и кинутся наутек, понесут его в каком-нибудь не согласованном с ним направлении, примутся притоптывать против его воли или заведут в мрачные дворы среди обветшалых домов, поднимутся по чужим ступенькам, выведут через какие-то лазы на крутые скользкие крыши и заставят его, точно лунатика, прогуливаться по их чешуйчатой черепице.
Наверное, эти беспокойные ноги виноваты в том, что у Куницкого бессонница: от пояса вверх он спокоен, расслаблен и сонлив, от пояса вниз — неутомим. Видимо, он состоит из двух человек. Тот, что сверху, жаждет покоя, справедливости, тот, что снизу, — порочен и попирает все законы. Верхний имеет имя, фамилию, адрес и ИНН, нижнему о себе сказать нечего, да, в сущности, он и сам себе надоел.
Куницкому хочется угомонить свои ноги, смазать их успокаивающей мазью, эта внутренняя щекотка так неприятна… Наконец он принимает снотворное. Призывает ноги к порядку.
Куницкий пытается совладать со своими конечностями. Придумывает всякие хитрости: разрешает им — даже пальцам в ботинках — двигаться сколько угодно, самостоятельно, пока остальное тело стоит спокойно. Усаживаясь, тоже отпускает их на волю: пускай себе бесятся. Он смотрит на носки ботинок и видит, как кожа едва заметно шевелится — это ступни начинают свое навязчивое топотание. Куницкий много гуляет. Он уже, кажется, прошел по всем мостам через Одру и каналы. Ни одного не пропустил.
Третья неделя сентября дождливая и ветреная. Пора доставать с антресолей осенние вещи, куртки и резиновые сапоги для ребенка. Куницкий забирает его из детского сада, и теперь они торопливо идут к машине. Мальчик прыгает в лужу, летят брызги. Куницкий ничего не замечает, он придумывает, что сказать, выстраивает фразы. Например, так: «Я опасаюсь, что ребенок мог пережить шок». Или более уверенно: «Мне кажется, сын пережил шок». Ему приходят на ум слова «травма», «пережить травму».
Они едут по мокрому городу, дворники работают вовсю — собирают воду с окон, раз за разом приоткрывая размазанный, канувший в дождь мир.
Четверг — его день. По четвергам он забирает сына из детского сада. Жена после обеда занята, у нее какие-то кружки, возвращается она поздно, так что у Куницкого есть возможность пообщаться с ребенком.
Они подъезжают к отремонтированному дому в самом центре города и некоторое время ищут, где бы припарковаться.
— Куда мы идем? — спрашивает малыш, а поскольку Куницкий не отвечает, мальчик повторяет снова и снова: — Куда мы идем? Куда мы идем? Куда мы идем?
— Тихо, — говорит отец, но потом, помолчав, объясняет: — К одной тете.
Малыш не протестует — наверное, ему любопытно.
В приемной никого нет, и к ним сразу выходит высокая женщина лет пятидесяти, приглашает в кабинет. Кабинет светлый, приятный: в центре большой пестрый ковер с мягким ворсом, на нем — игрушки и кубики. Дальше диван и два кресла, стол и стул. Ребенок осторожно садится на краешек кресла, а сам разглядывает игрушки. Женщина улыбается и подает Куницкому руку, здоровается с мальчиком. Она заговаривает с ребенком, словно бы подчеркнуто не обращая внимания на отца. Поэтому он начинает первым, предупреждая ее возможные вопросы.
— С некоторого времени мой сын плохо спит, он сделался нервным и… — выдумывает Куницкий, но женщина прерывает его.
— Лучше сначала поиграем, — предлагает она.
Это звучит абсурдно. Куницкий не понимает: с ним она тоже собирается играть? Он замирает, удивленный.
— Сколько тебе лет? — спрашивает женщина ребенка. Малыш показывает три пальчика.