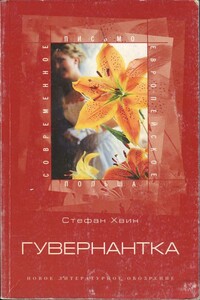В это время внизу, в одном из этих темных пятен другой человек выходит из деревянного дома и поднимает глаза к небу, пытаясь определить, какая будет завтра погода.
Если мы проведем от центра земли гипотетическую прямую, то окажется, что на протяжении доли секунды этот луч пересекает обе фигуры: быть может, в него на мгновение попадает их взгляд, быть может, луч нанизывает на себя их зрачки.
На короткий миг они становятся соседями по вертикали — ведь что такое одиннадцать тысяч метров? Чуть больше десяти километров, ничего особенного. Гораздо меньше, чем расстояние, отделяющее того человека на земле от ближайшего населенного пункта. Меньше, чем расстояние между районами большого города.
По дороге я вижу рекламные плакаты, которые черным по белому провозглашают: «Jesus loves even you»[130]. Эта неожиданная поддержка вызывает во мне душевный подъем, вот только тревожит слово «even»[131]…
Прошагав несколько часов по крутому океанскому берегу, продираясь через остроконечные листья юкки, отбрасывающие пятнистые тени, мы спускаемся к воде. На камнях — маленький навес с источником пресной воды. Огромное пустое пространство — и вдруг три стены под крышей. Внутри — скамейки, на которых можно посидеть или поспать. На одной из них — вот ведь удивительно — тетрадь в черной ламинированной обложке и желтая ручка «Бик». Книга отзывов. Я бросаю рюкзак, атлас и принимаюсь жадно читать — с самой первой страницы. Рубрики, почерки, чужие слова, лаконичные данные всех тех, кто по прихоти таинственной судьбы побывал здесь до меня. Номер по порядку, дата, имя и фамилия, Три Вопроса Паломника: страна, откуда ты родом, отправной пункт, пункт назначения. Оказывается, я тут сто пятьдесят шестая. До меня здесь были норвежцы, ирландцы, американцы, двое корейцев, австралийцы, больше всего немцев, но есть и швейцарцы, и даже — вот, пожалуйста — словаки. Тут мой взгляд выхватывает одно имя: Шимон Поляковский, Свебодзин[132], Польша. Как загипнотизированная, я рассматриваю эту торопливую запись. Громко произношу вслух: «Свебодзин» — и мне начинает казаться, что океан, юкки и крутая тропка покрываются матовой пленкой. Это забавное название, которое трудно произнести, которому сопротивляется избалованный язык, мягкое извращенное «дзь», ассоциирующееся с холодом клеенки на кухонном столе, корзинкой только что собранных помидоров, запахом бензина из «юнкера»… Свебодзин вдруг заполняет собой всю реальность. Так до конца дня и висит над океаном — огромная фата-моргана.
И хотя я никогда не была в этом городке, смутно различаю его улочки, автобусную остановку, магазин «Мясо», костел. Ночью меня охватывает ностальгия, неприятная, словно желудочный спазм, в полудреме мне видятся чужие губы, ловко складывающиеся в этот неслыханный звук «дзь».
Лето закрылось за Куницким, захлопнулось. Он обустраивается в осени: меняет сандалии на туфли, шорты — на брюки, точит карандаши, разбирает счета. Прошлое тает, это всего лишь обрезки жизни, не стоящие сожаления. И чувства его, должно быть, тоже — фантомная боль, нереальная, страдание неполной, ущербной формы, инстинктивно тоскующей по целому. Чем еще это объяснить?
В последнее время ему не спится. Вернее, он засыпает вечером, просто падает от усталости, но около трех-четырех утра просыпается — как было много лет назад после наводнения. Но тогда он понимал, в чем дело: его мучил страх перед стихией. Теперь все иначе, ведь ничего страшного он не пережил. Однако образовалось отверстие, пауза. Куницкий знает, что ее можно было бы заштопать словами, найди он нужное количество верных, подходящих слов для объяснения того, что произошло, дыру можно было бы залатать, и следа бы не осталось, а он безмятежно спал бы до восьми. Порой, изредка, ему мерещится чей-то голос, громко, пронзительно произносящий пару слов. Слов, оторванных и от бессонной ночи, и от хлопотного дня. Что-то искрит в нейронах, какие-то импульсы перескакивают с места на место. Разве не так происходит процесс мышления?
Это стоящие на пороге разума готовые призраки — как бывает готовая, не на заказ сшитая одежда. Совсем не страшные — это не библейский потоп, и дантовских сцен там не увидишь. Просто чудовищная неотвратимость воды, ее вездесущесть. Ею пропитываются стены квартиры. Куницкий ковыряет пальцем больную, размякшую штукатурку, на коже остается след влажной краски. Пятна образуют на стенах географические карты, он не знает этих стран, ни одно название к ним не подходит. Капли просачиваются через оконные рамы, промывают ковер. Забиваешь гвоздь — брызгает тоненький ручеек, открываешь ящик стола — разлается хлюпанье воды. Подними камень, и ты найдешь меня там, шепчет вода. Она захлестывает клавиатуру, заливает монитор, монитор гаснет. Куницкий выбегает из дому и видит, что исчезли песочницы и клумбы, исчезли низкие живые изгороди. По щиколотку в воде он бредет к машине, чтобы попробовать выбраться в более высокие районы города, но уже не успевает. Они окружены, в ловушке.