Тургенев, судя по всему, больше видел Ю. П. на фотографиях, чем в жизни. И «величина» её рук могла быть оптическим искажением. Но фотографий не сохранилось. Может быть, руки и в самом деле были «велики». Он прямо говорит ей о своём желании побыть наедине и зовёт в Карлсбад. Воды — классическое место адюльтера XIX века. Сюда-то он её и приглашает.
Она же «с удовольствием» сидит в деревне и отсюда «водит его за нос». То она едет, то не едет, а может, она и правда в растерянности от его настойчивости и не знает, как лучше поступить: то ли раздуть в «старичке» ревность и своевольничать дальше — ведь он любит неприступность, и отказ будет в её пользу, то ли не испытывать дольше его терпения и поехать, а там на месте решить, что делать.
А его вопросы «порвалась ли верёвочка на её лапках? — и крепка ли была эта верёвочка?» — что это значит? Опять о её несвободе? Он знал о ней больше, чем писал в письмах, а мы никогда не узнаем этого, и девять десятых её жизни так и останутся в тёмных водах прошлого.
И всё-таки благоразумие взяло верх. И Тургенев, едва удерживаясь в светских рамках, с горечью констатирует, что «на личное свидание в Карлсбаде я уже не надеюсь:
Ваше последнее письмо рассеяло мои ожидания». И кисло прибавляет, что благодарит её хотя бы за желание приехать туда, если бы не дела и обязанности. Он подавлен, как будто даже охладел (сколько напора и усилий впустую, а он немолод), и даже желчно острит, что это к лучшему: «Скука, говорят, отличное подспорье водам и всяческому лечению». Да и не так уж романтично двоим немолодым людям свидеться на водах по причине нездоровых желудков — вот Вам, Юлия Петровна. Получайте.
Юлия Петровна никуда не поехала, и пошли спокойные, дружеские письма, но вот в августе, в скобках, он из Парижа: «... (в эту самую минуту над нашим садом проходит гроза вроде карлсбадской, помните?)». И дальше... благодарит её за «бешенство, возбуждённое в «террасе с балконом» и других соотечественниках». Значит, она была там, появлялась с ним в свете и вызвала даже бешенство своей независимостью в качестве спутницы Тургенева.
Теперь надо внимательно посмотреть, что было написано до этого, чтобы понять «степень» их отношений, узнать, решилась ли Юлия Петровна «перейти Рубикон»? Тургенев уехал из Карлсбада раньше, она послала ему вслед «тоскливую» записочку с чем-то откровенным и неутешительным для него. Он отвечает, что, во-первых, не принадлежит к числу мужчин, способных рассеять её уныние, во-вторых, она «ясно глядит на вещи, здраво судит о себе самой и других: всё придёт в свою колею», он не обижен и не сердится, вернулся в Париж и «нашёл всех своих владетельниц в лучшем виде». Да ещё сетует, что хоть в ней и зреет «решительность во всех видах», но он ощущает себя «физическим грибом уже давно», а через год грозится стать и «нравственным». Что-то у них там не склеилось, и он спокойно спрашивает, поедет ли она после Ялты в Индию «вслед за Вашим полковником (Жуковскому я об Вашем плане ничего не скажу — а то он в состоянии поскакать туда, не расплатившись с долгами)», — и «спокойно» сомневается, что увидит её в Париже. Совершенно мирно воображает, как она «кружит головы всем этим аббатам и прочим дипломатам!». В декабре почтительно сообщает о кончине в Париже её брата Ивана Петровича и добавляет, что его болезнь была из тех, «которые не прощают». Люди не прощают или болезнь не прощает? Фраза двусмысленная, загадочная, но Тургенев и Вревская, наверное, поняли друг друга.
Вот и весь год, бодро начатый и вяло, грустно окончившийся этим сообщением да привычной шуткой Тургенева: «Перед старостью хотелось бы выкинуть какую-нибудь несуразную штуку... Не поможете ли?»
Нет, она не помогла. Она сама вскоре «выкинула штуку» — ушла на войну.
1876
«...Впрочем, вечного ничего нет, кроме вечного, тупого ожидания до гробовой доски чего-то лучшего и неведомого» — это Юлия говорит.
«Не предавайтесь слишком мрачным мыслям; жизнь, конечно, не слишком красивая вещь — да другого ещё пока ничего не придумали», — серьёзно отвечает Тургенев.
Человек он очень общительный, если у неё есть настроение (а если нет — трезвонь в дверной колокольчик сколько вздумается — баронессы «нет дома»), быстро сходится с людьми: «Я рад, что Вы сошлись с Мещёрским; он прекрасный малый». Но так же быстро в людях и разочаровывается. И вот уже любезный князь Мещёрский впал «в немилость».






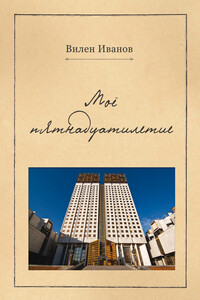
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)