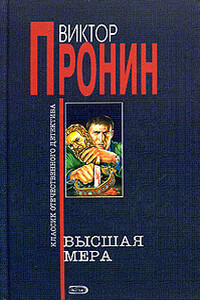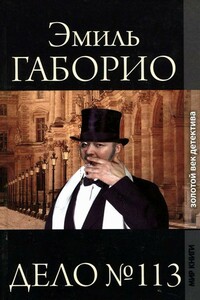— Это в каком же смысле? — с улыбкой обернулся из кресла Вохмянин.
— В прямом, только в прямом, — ответил Худолей. — Ни один настоящий мужик, пока он жив, пока бьется его блудливое сердце, пока ясен похотливый ум, пока бежит по его жилам горячая непутевая кровь, не поднимется из-за стола, на котором осталось вот это! — Худолей картинным жестом, в гневе от увиденного, показал на два стоявших рядом стакана, из которых пили строители, — в каждом из них было не менее чем по трети виски. — Если же эти люди, — Худолей скорчил презрительную гримасу, показывая, как неприятно ему говорить о безнравственности, — встали из-за стола, бросив виски, — лицо Худолея сделалось одухотворенным, будто он говорил о самых больших ценностях, доступных человеческому духу, — значит, были у них причины уважительные, срочные, а может быть, даже и противозаконные! Ну?! — резко обернулся Худолей к побледневшим шабашникам. — Признавайтесь!
— В чем? — дружно спросили оба осевшими голосами.
— Что заставило вас бросить это богатство?
— Так вроде хватит... Уж выпили...
— Вы всегда столько оставляете?
— Так уж получилось... Не всегда, конечно... Мы и пьем-то не часто, а уж виски...
— Вот! — вскинул Худолей указательный палец вперед, как бы пронзая им насквозь Петришко. — Вот! — повторил, пронзая второго и пригвождая обоих строителей к позорному столбу. — Павел Николаевич! Ты бы оставил столько виски в стакане, если бы тебя угостили на халяву?
— Ни за что! — заверил Пафнутьев.
— Что же делать, — бормотал Петришко, оглядываясь на приятеля.
— Придется допить, — улыбнулся Худолей, обессиленно падая в кресло. На вспышку красноречия ушла вся его небольшая, в общем-то, энергия. Поняв состояние эксперта, Вохмянин плеснул ему в свободный стакан остававшееся в бутылке виски. И только тогда Пафнутьев заметил, что его жена, объячевская домоправительница, куда-то незаметно исчезла.
— Где ваша жена? — спросил Пафнутьев.
— Я отправил ее спать, — ответил Вохмянин. — Нечего ей здесь с мужиками толкаться.
— Как бы мне с ней поговорить?
— Может, утром? А то ведь она того... Вместе с нами слегка поддала... Вряд ли ее показания могут иметь какой-то интерес, какую-то доказательную силу, — усмехнулся Вохмянин, явно довольный тем, что ему удалось под шумок худолеевских речей умыкнуть жену от следователя.
— Ну, что ж, — Пафнутьев выглядел растерянным, понимая, что его обвели вокруг пальца. — Вроде бы и закат еще не кончился, и ночь не наступила...
— Мы рано ложимся, — Вохмянин был неуязвим, и на все попытки Пафнутьева поговорить с его женой у него мгновенно находились свои возражения.
— Вы давно с ней здесь живете? — спросил Пафнутьев, понимая многозначность своего вопроса, сознавая, как много на него можно дать совершенно пустых ответов. Но слова Вохмянина были самыми неуязвимыми.
— С самого начала, — ответил телохранитель.
— Начала чего?
— С тех пор, как строительство дома вышло из нулевого цикла и появились стены, крыша, полы... С тех пор, как Объячев пригласил меня в качестве телохранителя, а Катю... — Вохмянин на секунду замялся. — Кухаркой, домоправительницей... В общем, на ней было все хозяйство дома... Кормежка строителей, расчеты с экскаваторщиками, выяснение отношений с соседями, которые все норовили сдвинуть заборы в нашу сторону... А деловая переписка, документация, организация деловых встреч с поставщиками... — Вохмянин расчетливо начал перечислять уже обязанности секретарши. Он чувствовал, что его прервут, и не возражал, поскольку, произнеся последние слова, сам замолчал в ожидании, когда Света вскрикнет гневно и возмущенно. И действительно, красавица вскочила из своего кресла, слегка хмельная и от этого, как заметил Пафнутьев, еще более прекрасная, нежели утром. Она резко поставила свой, тоже недопитый стакан с виски на стол и, выйдя из-за кресла, остановилась перед сидящим телохранителем.
— Как вам не стыдно! — воскликнула она звонко, но не истерично, не визгливо. Юшкова прекрасно владела собой, и Пафнутьев заметил, как она бросила на него взгляд, пристальный и твердый, — похоже, надеялась на поддержку.