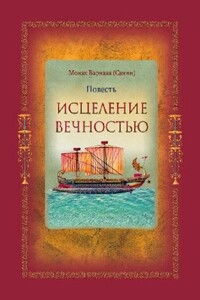Наконец, умерив темп речи и четко отделяя слоги — вероятно, от того, что отыскал очередной восхитительный пассаж, который хотел просмаковать, а также от того, что на сей раз ему попадались более сложные выражения, — молодой человек выдал следующее: «Потомственная аристократия охотно демонстрирует свою любовь к утонченности и страсть к титулам. Считается, что в Соединенных Штатах царит всеобщее равенство, но это совершенно ошибочное мнение… Существуют салоны, в которых некоторые господа превосходят в надменности немецких князей из Шестнадцатого квартала. Эта плебейская знать стремится к кастовости, вопреки развитию просвещения, которое сделало всех равными и свободными».
— Одним словом, — прокомментировал Пеллерен с некоторым лиризмом (словно бы благородство цитируемого виконта оказалось заразным), — неравенство с тех пор устарело, как древние мамонты, и теперь его епархия располагается где-то рядом с Эльдорадо и Калькуттой, утопающими в золоте и грязи, — рай для тысячи и нищета для ста миллионов.
Затем, по его приглашению, взял слово другой молодой человек. У него был высокий голос и язвительная манера говорить, довольно неприятная.
— Я для вас приберег, — начал он, — известную фразу Гюйсманса>[41] в финале «Наоборот», где речь идет о триумфе богатой буржуазии во Франции: «Это была огромная американская ванна, доставленная на наш континент». Но есть и кое-что получше. Я нашел несколько перлов, вышедших из-под пера одного из самых больших знатоков и друзей Америки в XIX веке — я имею в виду Алексиса де Токвиля.>[42]
Вот, например: «Я не знаю другой страны, где так мало независимого мышления и истинной свободы слова, как в Америке». И еще: «Если в Америке пока нет великих писателей, то за причинами этого далеко ходить не нужно: литературный гений не может существовать без свободы мышления, а ее в Америке нет».
Эта последняя фраза была встречена смешками, но вместе с тем и слабым возражением итальянки: «А Торо? Майлер? Чомски?».>[43]
Следующее выступление было более эмоциональным. Данный оратор был наиболее безжалостен не только по отношению к тем или иным «галло-американцам», которых знал лично, но и по отношению к кумирам «всех этих придурков», этих новоявленных «мещан во дворянстве». Кто-то заявил: «Каждый четвертый американец страдает ожирением!» «Неудивительно, если посмотреть, что они жрут!» — ответил другой. «Это страна, которая навязывает свой образ жизни всему миру и, однако, потерпела полный крах!» — басом пророкотал еще один молодой человек. «По сути, она хуже, чем бывший СССР», — объявил еще кто-то. «А жестокость! — воскликнул молодой человек с высоким голосом. — У них хватит жестокости для того, чтобы взорвать всю планету! Их грубость заметна даже в быту! У них нет обращения на „вы“ и через каждое слово — fuck! Их вульгарность может сравниться только с их спесью!» «Нет, — возразил Пеллерен. — Для того чтобы обладать спесью, нужно осознавать существование других. А эта, с позволения сказать, цивилизация более закрыта для проникновения всего иного, чем любая другая за всю историю человечества. Их запредельное невежество глубоко укоренилось даже в правящих кругах. Взгляните на Буша-младшего, который намеревается управлять страной, и больше того — всем миром: во время своей первой предвыборной кампании он назвал жителей Греции (страна, о которой он явно ничего не слышал) — „гречанцами“! Самая мощная демократическая система в мире? После Гуантанамо в это с трудом верится».
Одним словом, это был настоящий разнос, но тут я отвлекся, увидев на улице человека, чей силуэт показался мне одновременно знакомым и непривычным: это был мой дядюшка Обен! Он, который, как я полагал, навсегда облачился в пижаму и домашние шлепанцы, шел довольно быстрым шагом, на нем был блейзер и даже галстук! Я бросился за ним и добежал уже до башни с часами на главной городской площади, как вдруг он неожиданно исчез. Непонятно, как он мог это сделать, если только не взмыл в воздух, — по идее, он должен был все время оставаться в поле моего зрения.
Вернувшись, я с удивлением услышал, как хозяин заведения устраивает разнос официанту Кариму.