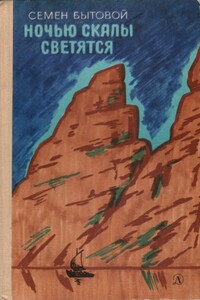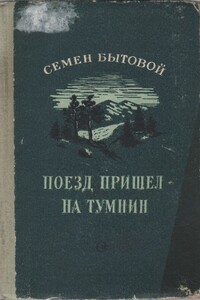Теперь уже не вспомню, на какой день добрались мы до речной пристани, где тоже оказалась тьма беженцев. Ожидали баржу. Когда ее подадут, никто, понятно, толком не знал, а люди из степи все подходили, так что на берегу уже негде было, как говорят, яблоку упасть. Ночь кое-как провели у реки, а наутро стали думать-гадать, что дальше делать. Оставаться на пристани опасно. Как только немцы разнюхают, что здесь большое скопление людей, опять самолеты напустят. Тогда отец посоветовал как-нибудь переправиться на тот берег. Там стеной стоит пшеница и от самолетов укрыться можно, да и коней подправить и самим зерном запастись: кто знает, сколько нам еще бродить, пока к жилому месту прибьемся.
И вот началась наша цыганская переправа: кто пустился вплавь, пристроив на спине свои пожитки, кто не умел плавать, по трое-четверо садились верхом на коня и гнали через реку. Переправившись, не успев обсушиться, пошли дальше. И представьте себе, девочки, отец мой как в воду глядел - не успели пройти и трех километров по полям, как на пристань самолеты налетели. Даже подумать страшно, сколько там, наверно, людей невинных погибло!
Словом, шли мы и шли, и по несжатым полям, и лесом, надеялись добраться до какого-нибудь селения. И так изо дня в день целую неделю.
Я к тому времени оправилась от контузии, но по ночам, вспоминая маму и Петечку, очень кричала. Потом у меня и это прошло. Через месяц, помнится, наши цыгане вышли к Волге, но и там оказалась тьма беженцев. Решили отбиться от них. Забыла сказать, что наш небольшой табор состоял из родичей, добрая половина из них носила фамилию Панчей. Держались они друг за друга крепко: куда один пойдет, следом за ним - остальные. Теперь все чаще стали попадаться села. Мужчины находили кое-какую работу, а женщины, ясное дело, ходили по хатам, гадали и попрошайничали. К вечеру у них заводились деньжата, а в торбах куски хлеба, картофель, огурцы, баклажаны. Я к тому времени научилась петь, плясать, а тетушка Шура, сестра отца, подарила мне старую колоду карт, и я тоже стала гадать, судьбу предсказывать. Мой отец, Панас Панч, был искусным кузнецом и слесарем, в заработках моих не нуждался и все реже отпускал меня от себя. Он даже чуть не подрался с теткой Шурой, когда узнал, что она заставляет меня воровать на огородах помидоры.
"Ну и держи свое сокровище при себе!" - крикнула отцу тетка Шура, грубо толкнув меня в спину.
Это была очень суровая, властная женщина лет сорока пяти, с продолговатым смуглым лицом, черными, как смородины, глазами и острым, как птичий клюв, хищным носом. Она носила длинные, чуть ли не до плеч, грузные серебряные серьги, которые оттягивали мочки ушей. На кистях ее смуглых рук были одинаковые широкие браслеты тоже из черненого серебра; тетку Шуру наши цыгане побаивались и избегали вступать с ней в спор.
Однажды, когда мы с отцом сидели на траве около деревенской кузни, поведал он мне свою мечту:
"Может, здесь приживусь я, зоренька, в русский колхоз вступлю, в школу отдам тебя..."
Однако заветная мечта отца не сбылась. Наши цыгане, пожив лето в деревне, решили перекочевать на новое место, и отец, крайне привязанный к родичам, побоялся от них отстать. Так глубокий осенью с Волги мы перекочевали на Каму и встретили холода возле Перми. Здесь мы жили долго, до конца войны, а когда мир наступил, стали поговаривать о том, как бы на родной Днестр перебраться. И тут - не знаю, на счастье или на грех познакомились цыгане с неким Бундиковым, вербовавшим на рыбные промыслы на остров Сахалин сезонных рабочих. Надумали и наши цыгане завербоваться. Однако Бундиков долго не решался иметь с нами дело, но план вербовки у него проваливался, и он все-таки пришел в наш табор.
"Выдашь вам, бродяги, гроши, а вы в пути разбредетесь ручки золотить, а я из своего кармана плати!"
Дали Бундикову твердое слово, что все, как один, доедем до Сахалина, - все-таки условия подходящие да и край, видать, богатый, и цыган там сроду не бывало.
"Лады, бродяги, иду на риск, - сказал Бундиков, - только не подведите!"
"Да ты что, Иван Иванович, - говорили наши цыгане, - с кем дело имеешь! Доброго человека - грех подводить!"