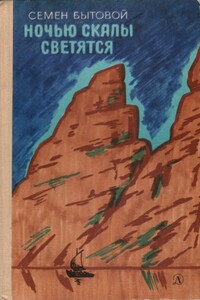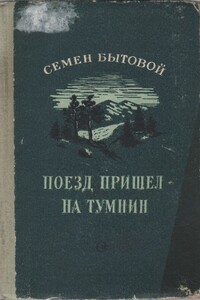Будто сама не своя, побежала на пристань, повалилась на баулы и залилась слезами. А когда немного успокоилась, твердо решила: не буду жить!
Поздно вечером, когда наши, утомившись от ходьбы по городу, крепко спали, прошла в темноте к самому краю пирса, взобралась на волнолом, перекрестилась перед смертью и только глянула вниз, в черную воду, перед моими глазами вдруг возникла картина войны: горячая от зноя степь, мама, братик Петя, отец, седой от степной пыли. И тут я подумала: если утоплюсь, что с моим дорогим таточкой сделается, ведь я у него одна на всем белом свете! Не выдержит он нового горя, тоже руки на себя наложит. И сама уж не знаю, как я удержалась, чтобы не прыгнуть в море, ведь я уже на волоске висела.
Не буду вспоминать, как сели на пароход, как добрались до места. Прибыли на рыбзавод, устроили нас в общежитии, дали три дня на отдых, потом распределили на работу. Первое время наши люди работали дружно - кто на лове горбуши, кто на погрузке, а мы, женщины, на разделке рыбы. Но вскоре большинство из нас разбрелись, стали, как бывало, гадать, а когда завелись легкие деньги, то цыгане решили, что жены их и так прокормят.
"Что же ты, Иван, ходишь ручки в брючки?" - спросила я Жило.
Он топнул каблуком, лихо сдвинул на затылок кепочку:
"Да мы ж цыгане, мы ж люди темные, любим гроши, харчи хороши, верхнюю одежу, да чтоб рано не будили!"
"Не дури, Иван".
"Скоро, Кира, уезжать будем!"
"Как уезжать? - испугалась я. - Еще срок не вышел!"
"Срок - не зарок, можно и нарушить!"
"Нет, ты говори правду, Иван!"
"Первым же пароходом уедем, хотим на Днестр пробиваться, до родины".
Не знаю, как получилось - скорей под влиянием тети Шуры, - и я из бригады ушла. С утра до вечера шлялась у моря, ловила легковерных, гадала им.
Как-то пристала я к одной новенькой - Мариной звали, - а она:
"Сколько тебе лет, цыганочка?"
"Семнадцать".
"Грамотная?"
"Нет".
"Вот видишь, вся жизнь твоя впереди, а ты свою молодость губишь. Из цеха сбежала, шляешься дура дурой, наводишь тень на ясный день".
А я сажусь с ней рядом и, как ни в чем не бывало, сую ей в руки колоду карт и говорю, чтобы сняла верхние. Марина шутя сняла.
Я посмотрела ей в глаза, разметала карты и, как всегда, стала ей говорить заученные слова: про дальнюю дорогу, про казенный дом, про бубнового короля, который ждет не дождется ее, и все в этом роде.
Вдруг Марина встает, путает карты.
"Все врешь, Кира!"
И до слез стыдно мне стало, что карты мои наврали.
И вот пришел день, когда наши собрались уезжать. Отец вернулся из кузни рано, сходил в баню, переоделся.
"И ты, таточка, едешь?"
"Что делать, зоренька, куда все, туда и мы. Разве от своих отобьешься?"
"А я, таточка, не поеду! Страшно мне!"
"Почему тебе с отцом страшно?"
"Не хочу я за Ивана выходить, боюсь его, погибну я с ним! Лучше останусь тут с подружками. Разреши, таточка, и сам оставайся. Хорошая у тебя служба в кузне. Ценят тебя, премию выдали. Ты уже пожилой, таточка, не по силам тебе кочевать. Останемся, хуже не будет!"
Отец промолчал, отвернулся, стал собираться.
Вечером, когда цыгане садились на пароход, я незаметно побежала к рыбзаводу и стала ждать конца смены. Вот с красным платочком на голове вышла Марина, за нею Тося с Лидкой. Заметив меня, Марина, воскликнула:
"Девчата, Кира пришла!"
"К вам я, девочки, вернулась!" - сказала я.
"Насовсем?"
"Да! Хочу насовсем! Наши цыгане на пароход садятся, а я боюсь", - и хочу сказать, чтобы спрятали меня, а то Иван Жило хватится и побежит искать, но не могу - стыдно!
И верно, будто угадала я: в расстегнутом пиджаке, без шапки бежит к заводу Иван. В руках у него финский нож.
В это время уже порядочно людей вышло из цехов. Я испуганно кинулась в толпу.
"Где моя Кира?" - подбегая к Марине, кричит Иван.
"Ты как с девушками разговариваешь? Ну-ка, спрячь финку!" - строго говорит Марина.
"Отдай Киру, она невеста моя!"
"Ишь, какой отыскался жених! - опять возмущается Марина. - Ты эти дикие штучки брось. А ну-ка, девочки, зовите наших ребят-курибанов, пускай они этого жениха в Тихом океане искупают!"