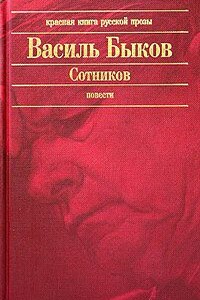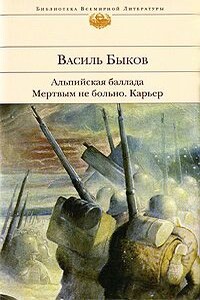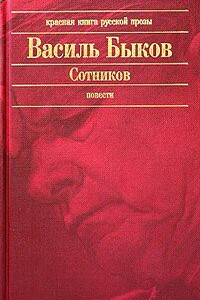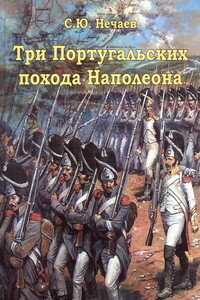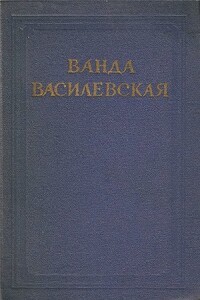Скоро, однако, трескучий огневой напор стал явственно слабнуть, тем самым обозначая, наверно, перелом в бое, я опять пристально вгляделся в притуманенные склоны, но - нигде ничего. Значит, не убегают, все там. Что же тогда - выходит, прорвались?
Опять долетел обрывок какого-то голоса, но опять невозможно было определить, кому он принадлежал, этот голос, - нашим или немцам. Автоматы беспорядочно потрескивали в разных местах, будто кто-то невидимый на высоте рывками раздирал необычной прочности ткань. Пули, однако, над дорогой уже не летали, и я подумал, что стреляют, по-видимому, в ту сторону. Но это значит, что огонь ведут наши.
Все же полной уверенности в этом у меня еще не было, в я все вглядывался в проступавшие сквозь дождевую мглу раскисшие пятна снега на той стороне - я бы сразу заметил, если бы там кто бежал. Но с высоты никто не появлялся.
Спустя еще четверть часа разрозненный автоматный треск прекратился, как-то нерешительно все вокруг смолкло.
Я ждал терпеливо и тягостно: если рота отбила высоту - значит, Ананьев должен был кого-то прислать за нами. Еще не веря, что все обошлось, я уже выглядывал его, всегда желанного посланца из боя, который бы окончательно укрепил нас в уверенности, что победили. Но он задерживался, этот посланец, что, впрочем, можно было объяснить: только окончился бой, и там тоже, разумеется, не обошлось без потерь.
Гриневич внизу, все время лежавший, как неживой, вдруг задвигался. Я вскочил, поскользнулся, подмяв полы шинели, сполз до канавы.
- Что, плохо вам?
С силой сжав зубы, он конвульсивно напрягся на земле, будто пытаясь разорвать на себе незримые путы, голова его запрокинулась, забинтованный затылок втиснулся в грязь. Минуту раненый боролся с болью или какой-то одолевавшей его недоброю силой, затем сразу обмяк и спросил:
- Где рота?
- Там рота. Кажется, взяли.
- Дай пить.
Я поднес к его сжатым зубам край котелка, опять пролил воду, но, кажется, немного выпил и он. Потом вроде успокоился, помолчал, с усилием вдохнул и прерывисто выдохнул:
- Не идут?
- Кто?
- За вами не идут?
Нет, за нами еще не шли, по крайней мере отсюда не видно было, но я ухватился за этот брошенный им предлог, чтобы опять взобраться на насыпь.
- Нет никого! - прокричал я оттуда.
Вокруг было тихо, мокро и совершенно пустынно. В этой тишине слышнее стали звуки далеких и близких боев: где-то за пригорком пророкотал пулемет, кажется наш «максим», с юга, ослабленное расстоянием, глухо доносилось мощное артиллерийское клокотание - будто кто-то могуче катал там, смешивая и сталкивая на земле, циклопические каменные громады: го-го-го, гу-гу, гах-гах-гах… Я сел боком на откос, то и дело поглядывая то на туманные склоны высоты, то на Гриневича внизу.
- Ну, где же они? - опять начал он напрягаться под плащ-палаткой. Оставив свое насиженное, более-менее сухое место, я в который уже раз сбежал вниз.
- Сейчас, сейчас. Скоро придут, - утешал я, сам уже теряя уверенность в том, что говорил. Действительно, как бы там ни было, на высоте, пора бы уж вспомнить и о нас.
- Может, сбегать туда? - предложил я.
- Нет, - сказал он сквозь стон. - Ни в коем случае.
Я посидел на корточках у его ног и поднялся: это проклятое ожидание уже становилось невмочь. Да и моя раненая рука болела, хотя и не так остро, как ночью, - наверно, надо бы переменить повязку.
- Тошнит! – выдохнул Гриневич, встрепенулся и, как будто спеша куда-то, с торопливой решимостью произнес: - Васюков! Иди в тыл.
- А вы?
- Я уже. Отвоевался... Погляди, не идут?
Нет, ни на склонах, ни на дороге никого не было, вовсю сыпал дождь, суживая вокруг и без того ограниченное ненастьем пространство. Опять за родилась смутная, безотчетная тревога.
Заметное беспокойство появилось и на небритом, осунувшемся лице замполита, когда я снова спустился к нему. Молча минуту я вглядывался в раненого, не желая беспокоить его своим тут присутствием, но он, видно, услышал меня и с такой настойчивостью выдохнул:
- Ты тут? Не надо. И… это самое… Ведь мы земляки.
- Как! – сорвалось у меня. - Вы разве из Белоруссии?