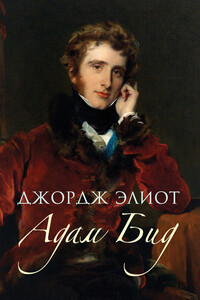Профессор Велау сидел у себя в кабинете, но на этот раз не работал, как обыкновенно, а читал газету, в которой было напечатано, должно быть, что-то очень неприятное для него, так как старик опять был «окружен грозовыми облаками».
Действительно, самая крупная и популярная газета города напечатала огромную статью об «Архистратиге Михаиле», первом большом произведении молодого художника, ученика профессора Вальтера. Критик, побывавший в мастерской еще до публичной выставки картины, говорил о ней с искренним восхищением и не упустил случая возвестить публике, что картина уже продана, предназначена для церкви в Санкт-Михаэле и будет торжественно помещена там в Михайлов день. Последнее обстоятельство больше всего рассердило профессора, и он, в бешенстве скомкав газету, бросил ее на пол и крикнул:
— День ото дня хуже! Если уже теперь начинают забивать парню голову всякими пустяками, то с ним окончательно сладу не будет! «Великолепный, потрясающий замысел», «блестящая разработка», «высокодаровитый художник, талант, перед которым открыты широкие горизонты»... А тут еще... да, да! Опять! «Гениальный сын знаменитого отца»! Черт бы побрал всех этих крикунов!
Велау взволнованно заходил взад и вперед по комнате. Он принадлежал к числу людей, которые не могут примириться со своей неправотой. Он готов был скорее утверждать, что белое — черное, чем признать ошибочность своего мнения о характере и способностях сына. Раз Ганс оказался неспособном стать учеником и последователем отца, значит, он ветрогон, не имеющий вообще никакого серьезного призвания.
Вдруг дверь в кабинет открылась, и на пороге появился старый садовник, которого Ганс взял для своих надобностей при мастерской, разумеется, опять-таки не спрашиваясь отца.
— Что нужно? — зарычал на него профессор. — Ведь вы же знаете, Антон, что я запрещаю входить ко мне без зова в часы моих занятий. Что вам нужно?
— Простите, мой господин, — сказал, старик-садовник, лицо которого отражало сильную тревогу, — я пришел из мастерской, от молодого господина...
— Это не оправдание! На следующий раз я запрещаю вламываться ко мне, поняли?
— Но, господин профессор, молодому господину так плохо, так плохо!.. Я уж боялся, как бы он не умер на моих руках!
— Что такое? — испуганно крикнул Велау. — Что с ним случилось?
— Не знаю. Я работал в саду, вдруг он открыл окно, кликнул меня, и, когда я пришел, он уже был полумертвым. «Позовите отца!» — с трудом прошептал он. Ну, тогда я и кинулся сломя голову сюда!
— Господи, да ведь мальчишка до сих пор чувствовал себя как рыба в воде! — крикнул Велау, бросаясь к двери.
Забыто было все прежнее раздражение, забыта клятва никогда не переступать порога мастерской. Велау бегом бросился через сад к ателье.
Когда Антон распахнул дверь мастерской перед профессором, последнему представилась печальная картина. Молодой художник лежал, запрокинув голову, в кресле, его глаза были закрыты, рука судорожно держалась за грудь, лица почти не было видно, так как тяжелые гардины на окне были спущены и в мастерской царил полумрак.
Велау торопливо подошел к сыну и нагнулся к нему.
— Ганс, что с тобой? Надеюсь, ты не заболел? Это — единственная глупость, которой ты до сих пор пока еще не делал и которую я категорически запрещаю тебе! Да говори же, по крайней мере!
Ганс с трудом открыл глаза и проронил слабым голосом:
— Это ты, отец? Прости, что я тебя позвал, но...
— Да что с тобой случилось?
При этих словах профессор хотел взять сына за руку, чтобы, пощупать пульс, но Ганс словно нечаянно заложил руку за голову.
— Не знаю... у меня вдруг закружилась голова... Мне стало отчего-то страшно, и я лишился сознания. Ужасное состояние...
— Все это происходит от проклятой пачкотни! — крикнул Велау. — Антон! Откройте окно, подайте воды, скорее! — теперь профессор опять схватил больного за руку. Ганс хотел проделать тот же маневр, но на этот раз отец опередил его. — Что такое! Пульс совершенно нормален! — подозрительно буркнул он и быстрым движением отдернул занавеску.
В мастерскую хлынули потоки дневного света и залили лицо молодого человека, самым откровенным образом дышавшее здоровьем.