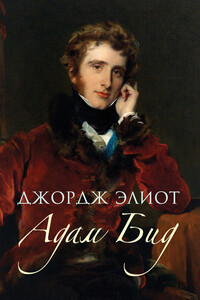— Мальчишка! Это опять одна из твоих дьявольских проделок! — загремел профессор. — Берегись, если ты проделал всю эту комедию лишь затем, чтобы затащить меня к себе в мастерскую!
— Но ты все-таки у меня, папа! — смеясь, ответил Ганс, видя, что ему не удастся выдержать дольше роль больного. — И теперь ты во всяком случае не уйдешь отсюда, не кинув взгляда на моего «Архистратига Михаила». Вот он, там, у стены, тебе стоит только обернуться! — и, говоря это, Ганс проворно вскочил и встал в дверях.
— Ты хочешь таким путем насиловать мою волю? — вне себя от бешенства крикнул профессор. — О твоей выходке мы с тобой еще поговорим, а теперь дорогу!
Однако вместо того, чтобы повиноваться, Ганс запер дверь на замок перед самым носом старого Антона, который прибежал с водой и теперь остановился, недоумевая.
— Тебе ничего не поможет, отец, — сказал художник, — отсюда ты не выйдешь! Здесь — мое царство, я по всей форме захватил тебя в плен и не выпущу, пока ты не взглянешь на картину!
Это было уж чересчур, и буря разразилась со всей силой. Но Ганс оставался непоколебимым и обнаружил в то же время такой стратегический талант, который сделал бы честь его другу Михаилу. Не переставая дискутировать с отцом, он оттеснял его все дальше и дальше от двери и заставлял отступать к задней стене, мастерской, где висела картина. Когда же, подвигаясь таким образом, профессор очутился совсем близко от картины, Ганс неожиданно взял отца за плечи и повернул лицом к стене.
— Ганс, если ты позволишь себе еще раз... — воскликнул профессор и вдруг замолчал: невольно взглянув на картину, он был явно поражен. Еще раз глянул, смущенно кашлянул и подошел поближе.
В глазах Ганса сверкнул луч торжества. Теперь он был уверен в успехе, но все же из предосторожности стал, как часовой, за спиной отца.
— Это мое первое большое произведение, отец! — тихо сказал он. — Я никак не мог отдать его на общественный суд, не показав предварительно тебе. Ты не должен сердиться на мою военную хитрость, ведь это была единственная возможность.
— Молчи и не мешай мне смотреть! — сердито оборвал профессор, стараясь найти место, с которого картину было бы видно лучше всего.
Так прошло несколько минут. Затем послышалось какое-то ворчание.
Наконец профессор оглянулся на сына и буркнул:
— И ты будешь уверять, что совершенно самостоятельно написал эту картину?
— Конечно, отец.
— Не верю! — категорически заявил Велау.
— Но не будешь же ты оспаривать у меня мое собственное произведение! Как оно тебе нравится?
Опять послышалось какое-то неопределенное ворчание, но на этот раз оно звучало уже как будто примирительно.
— Гм... вещь неплоха... чувствуются сила и жизнь... Откуда ты взял сюжет?
— Из головы, отец.
Велау снова посмотрел на картину, затем еще раз оглянулся на сына, в голове которого, по мнению старика, могли найтись только глупости и дурацкие шуточки. Он отказывался понимать, как это возможно, чтобы...
— Я все еще жду твоего приговора, отец!
Что-то дрогнуло в лице профессора. Видно было, что ему чрезвычайно хотелось опять начать ворчать и ругаться. Но это ему не удалось, и он нашел компромисс:
— На будущее время я запрещаю тебе писать запрестольные образа!
— Нет, папа, в самом ближайшем будущем я нарисую естествоиспытателя в лице знаменитого исследователя Велау! Когда ты можешь начать позировать мне?
— Оставь меня в покое! — буркнул Велау.
— Это — полусогласие, а мне нужно полное! Не хочешь ли начать сеансы с завтрашнего утра?
— Черт возьми, да, если иначе никак нельзя!
— Победа! — закричал Ганс и бурно обнял отца.
На этот раз профессор не стал вырываться. Наоборот, он тоже крепко обнял юношу и, глядя в его лучистые, ясные глаза, сказал в неожиданном порыве сердечности:
— Паренек! В ученые ты не годишься, это я теперь и сам вижу, но все-таки, может быть, несмотря ни на что, из тебя и выйдет кое-что путное!