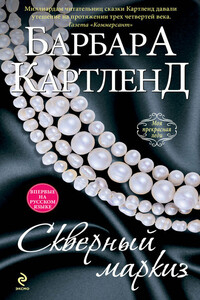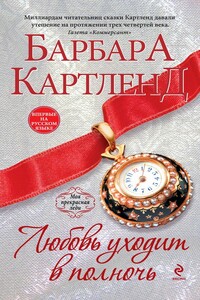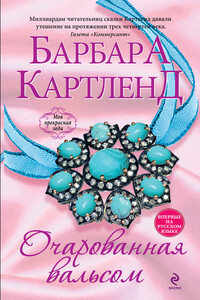Над камином, на почетном месте, она увидела одну картину… Это был Ван Дейк.
Один лишь взгляд на холст объяснил ей, почему граф привел ее сюда. Это была, в сущности, точная копия полотна, висевшего в ее спальне, того самого, на котором Мадонна так похожа и на ее мать, и на нее, Теодору.
Девушка застыла, не решаясь проронить ни звука и понимая, что граф как раз очень ждет ее слов. Однако возможно ли это? Возможно ли, чтобы это была копия, а их картина в Маунтсорреле — оригинал, или наоборот?
Зная, что это важно, она попыталась увидеть различия в технике или, что так характерно для работ Ван Дейка, в композиции. Но найти изъяны в изображении одеяния Марии, нежности на лице Иосифа и спокойной радости на лице божественного младенца было совершенно невозможно.
Должно быть, она долго стояла в молчаливом смятении, ибо граф наконец не выдержал и спросил:
— Ну что? Каков ваш вердикт?
— Она… совершенно такая же… как у нас!
— По тому, как вы это сказали, — граф внимательно посмотрел на нее, — я могу сделать вывод, что для вас в этой картине есть что-то очень личное.
А он, оказывается, более тонок, чем она ожидала! Удивленная, после паузы Теодора ответила, немного уклончиво:
— Видите ли, отец мой… всегда… считал… что моя мать похожа… на эту Мадонну.
— Как и вы!
Теодора взглянула на него с еще большим удивлением.
— Вы в самом деле так полагаете?
— Разумеется! — ответил граф. — Я понял это сразу же, как только вы вошли в комнату вчера вечером, и это сходство стало даже более разительным, когда вы сняли шляпку и спустились к ужину в розовом платье.
Теодора снова посмотрела на полотно.
— Я думала, — тихо сказала она, — что из-за того, что так часто смотрела на эту картину и так любила ее, потому что она напоминает мне маму, я стала похожа на нее больше, чем предполагалось, когда я родилась.
— Думаю, как бы вы ни пытались, — серьезно ответил ей граф, — вы не смогли бы никак изменить овал своего лица, линию носа, загадочность глаз…
Хотя он сказал это мягко, Теодора почувствовала, что его голос будто резонирует странной дрожью внутри нее, и она ощутила, что покрывается краской от самой шеи до скул.
И от смущения торопливо сказала:
— Вы понимаете, что… папа огорчится, когда… увидит это… Может быть, лучше… пока что… не показывать ему эту картину?
— И вы можете себе представить, чтобы я остаток жизни провел, теряясь в догадках, подлинный это Ван Дейк или нет? — Взгляд графа блуждал по ее лицу, смущая ее еще больше. — Если эта картина для вас что-то значит, то для меня — тоже.
Теодора ждала продолжения, но он не стал развивать эту мысль.
— До того, как ваш отец покинет замок, я — и я настаиваю на этом — должен узнать правду!
Граф сказал это властно, словно бросал ей вызов, чтобы она возразила. И она сказала:
— Уверена, в замке много… других картин, которые нужно отреставрировать.
— Да, конечно, — согласился граф. — Но эта — для меня самая важная. Теперь предлагаю вам осмотреть Стаббса, которого мой отец, страстный любитель спорта, ценил превыше всех остальных мастеров живописи.
В замке были дюжины превосходных полотен самых известных художников в относительно неплохом состоянии. Но Теодора обрадовалась, увидев в покоях графа Пуссена. Вот он, выход! Бедный Пуссен настолько нуждался в спасении, что Теодора, едва сдерживая радость, предложила немедленно перенести его прямиком в студию, отведенную Александру Колвину для работы.
— Папа очень любит работы Пуссена, — придавая голосу особенную убедительность, пояснила она, — и я уверена, когда он увидит эту, у него сразу руки зачешутся, чтобы начать с нею работать!
Граф улыбнулся.
— Иными словами, вы его искушаете, что должен был бы делать я — в отношении вас…
— Я бы хотела подольше погостить в вашем замке, — простодушно призналась Теодора. — Я все еще боюсь, что он растворится в воздухе перед моими глазами или папу вдруг одолеет тоска по дому, и он увезет меня с собой до того, как я увижу все ваши сокровища.
— Чтобы он этого не сделал, я сволоку все картины, какие есть в замке, в место, которое вы называете «студией»! — весело ответил ей граф.