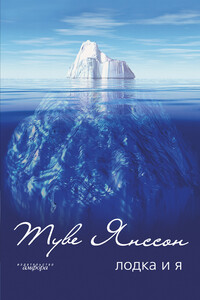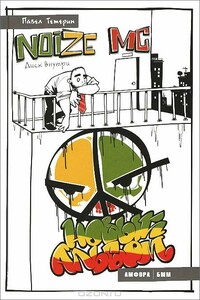Они вечером пришли, с осеннего дождя, заполнив квартиру пестрыми бутылками, гитарами, хохотом, сезонными бородами — и привели ее с собой.
Она чужой была этой экспедиционной команде, долго оставалась трезвой, стыдилась, горбилась. Рослая, в лиловой юбке королевского бархата с разрезом от бедра, в шнурованных солдатских ботинках, она разливала водку точными мужскими движениями — и молчала. Страшно и стыдно было смотреть в ее размалеванное лицо под всклокоченными патлами, приклеенным казалось лицо, вот-вот, казалось, отвалится. И всем с ней стало неловко, и не пел никто, только пили да переговаривались вполголоса.
И только позже, на кухне, где я стоял у плиты, следя за кофе, внезапно ударила гитара, и раскатилось неудержимо: «Уходят, уходят, уходят друзья…»
Я успел понять: «она!», но не пение, шквальный поток боли, проклятия и торжества сорвался с неведомых высот, как предвестие геологической катастрофы, и дом под его напором лопнул, зазвенели выбитые стекла, и поток звуков подхватил меня, сорвав, как ветошь, жалкие привычки жизни — унес и забросил на безлюдный остров и замер там, позабыв навсегда.
Необитаемо стало жить, и убежавший кофе залил огонь, и она делала странное движение пальцами, располагавшее к смерти.
«Да, — говорила, — да. В консерватории год всего, ушла. Там загоняют, как под нары, а мне тесно, я ору, чтобы не задохнуться. Я им ору — и люстры их дрожат, и лица, и руки. Я не боюсь, я ничего не боюсь, только тесно мне. А теперь я — клоун. В училище цирковом, не бросила пока. Я пьяная, я пьяный клоун, на меня нельзя смотреть, я знаю, вблизи — страшно. Я маски по лицу рисую, на мне просто. Особенно ту, знаешь, африканская такая, кто посмотрит — замертво падает. Я так… Я пожаловаться осталась. А с девками не хочу больше. И почему они терпят, а мужики не могут? Терпят, терпят, у них судьба такая — терпеть. Ну и пусть. Пусть они терпят, а я уйду. Положу ту, самую страшную положу маску и забуду, а потом вспомню, взгляну в упор и умру. Ты веришь?»
Целый год не вспоминала она про африканскую маску, меняла скандальные одежды, пила и пела, и мучительный ее дар все так же не находил себе места, а потом она умерла — трезвая, в нищей своей каморке, у зеркала, подернутого белой накипью, — без всякой причины умерла, просто от смерти, упав на стол лицом, раскрашенным в красное и черное. Как каторжник сквозь железные прутья исторглась, обдирая душу.
Мир тебе, пьяный клоун, не забудь меня здесь, на острове.
В ту осень у девочки начала подниматься грудь, и она замкнулась в себе, прислушиваясь к тому таинственному, что звучало в ней, подчиняя все звуки и помыслы ее прежней жизни.
Утром девочка пошла в лес по грибы, а их много было той осенью, полной смирения и тишины. В легком шелесте леса шла девочка, изредка нагибаясь к грибам, а позади, на даче, ждали ее раскрытые учебники и предавались своим старым и тихим мыслям ее родители.
Тут случилось, что лес преобразился внезапно и замер, зеленое перед девочкой стало изумрудно и каменно, как изваяние, и желтое стало оранжевым, а красное — как застывшее пламя. Словно в страшной сказке оцепенела девочка — цветной и каменной — и, не выдержав, обернулась и в шаге от себя увидела мужчину.
Он был неподвижен, и алебастровым казался его бескровный лик, в котором ожили и распахнулись глаза. Никогда прежде не встречала девочка таких глаз и чувствовала, как они втягивают ее в себя. Оно становилось прекрасным, это обращенное к ней лицо мужчины, и девочка не могла оторвать от него взгляда, и мир исчез для нее, и все ее существо заполнил голос, протяжный и властный, как зов рога.
Мужчина звал ее за собой, звал навсегда, и девочка затряслась в ужасе, в отрицании влекущей ее непреодолимой силы. Тогда мужчина протянул негнущуюся в локте руку и медленно разжал пальцы. Нестерпимый металлический свет плеснул с ладони и обжег девочку.
Она зажмурилась, а когда, мгновение спустя, раскрыла глаза, никого перед ней не было. Девочка сморгнула страшное наваждение, и расколдованный лес ожил и зашелестел.