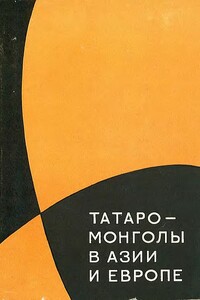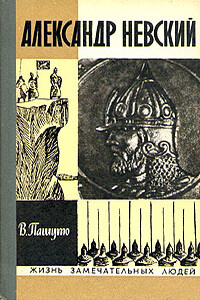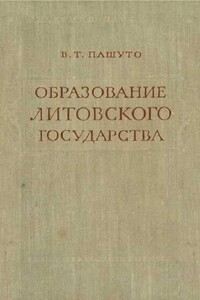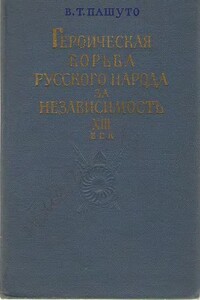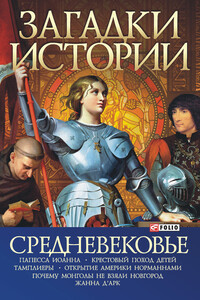Вероятно, в 1211 г. княживший в Новгороде Мстислав Удалой, совместно со своим братом Владимиром, державшим Луки и Псков, предприняли большой поход в землю эстов, в область Торма (Вайга), расположенную на западном берегу Чудского озера, «и много полониша скота бещисла приведоша». Зимой они двинулись в область Унгавнию, осадили город Оденпэ, занятый эстами, и бились там восемь дней. «Так как в замке не хватило воды и съестных припасов, осаждённые просили мира у русских. Те согласились на мир, крестили некоторых из них своим крещением, получили четыреста марок ногат, отступили оттуда и возвратились в свою землю, обещавши прислать к ним своих священников для… [их] крещения».
Таким образом, подтвердив свои права на эстские земли, новгородское правительство тогда же решило упрочить свою власть в них проведением массового крещения эстов, чтобы политически затруднить продвижение крестоносцев. Это была чрезвычайная мера, ибо, как правильно отметил немецкий хронист, «русские короли, покоряя оружием какой-нибудь народ, обыкновенно заботятся не об обращении его в христианскую веру, а о покорности в смысле уплаты податей и денег»; другими словами, русские князья и бояре, не считая нужным вводить в ряде подвластных им земель феодальные порядки, ограничивались данью, а потому и не внедряли в них феодальной идеологии.
Со своей стороны крестоносцы, стараясь ослабить силы Руси, сумели установить связь с псковским князем Владимиром Мстиславичем, скрепив её браком князя с племянницей Альберта. Поэтому в 1211 г., когда немецкие войска вновь вступили в землю эстов, совместно с ними действовал «очень большой отряд русских» из Пскова, который был «в мире» с Ригой. Правда, псковские правящие круги не одобрили тогда этой недальновидной политики и изгнали князя Владимира из Пскова «со всей дружиной»,[9] но тем не менее в 1212 г. немцы доходили уже до реки Эмбах и были в непосредственной близости от русских земель.
Обеспокоенное потерей своих позиций в Подвинье и ростом немецкого захватнического вторжения, новгородское боярство с помощью Мстислава Удалого организовало в 1212 г. новый поход в землю эстов. В этом походе участвовали псковский князь Всеволод Борисович и торопецкий князь Давыд; соединённое войско насчитывало по немецким данным 15 тыс. человек. По сведениям, сообщаемым новгородской летописью: «Иде князь Мстислав с новгородцы на Чюдь (т. е. эстов) на Ереву (т. е. Гервию, центральную и наиболее богатую часть Эстонии), сквозе землю Чудскую к морю, села их потрати и осеки (укрепления) их возма, и ста с новгородци под городом Воробиином (Варболэ, в земле Гаррия), и Чуть поклонишася ему, и Мстислав же князь возя на них дань». Две трети этой дани он отдал новгородцам, а третью часть своим феодалам — «дворяном».
То же сообщает и немецкая хроника, уточняя сумму дани: «когда великий король Новгорода Мстислав услышал о тевтонском войске в Эстонии, поднялся и он с пятнадцатью тысячами воинов и пошёл в Вайгу, а из Вайги в Гервен; не найдя тут тевтонов, двинулся дальше в Гариэн, осадил замок Варболэ и бился с ними несколько дней. Осаждённые обещали ему семьсот марок ногат, если он отступит, и он возвратился в свою землю».
Следовательно, можно думать, что новгородское боярство, не будучи в состоянии организовать контрнаступление против немцев, всё же добивалось от эстов уплаты традиционной дани.
Любопытно, что поход Мстислава вызвал в Литве стремление к сближению с Русью, и в 1213 г. литовский князь Даугеруте «с большими дарами отправился к великому королю новгородскому и заключил с ним мирный союз». Однако на обратном пути он был перехвачен немцами и кончил свои дни в венденской тюрьме. Всё же литовцы в этом году совершили нападение на Нижнее Подвинье.
Положение новгородского правительства в эти годы затруднялось тем, что ему ещё приходилось наталкиваться на враждебное отношение некоторых эстонских старейшин. Например, старейшина Саккалы Лембито, «пока русские были в Эстонии», направил войска в Русь. Они «ворвались в город Псков и стали убивать народ», но когда горожане «подняли тревогу… тотчас побежали с добычей и кое-какими пленными назад в Унгавию». Об этом событии остался след и в русской летописи: «изъехаша Литва (переписчики так исправили непонятное «Лембито») безбожная Пльсков и пожгоша: пльсковицы бо бяху в то время… на озере. И много отвориша зла и отъидоша».