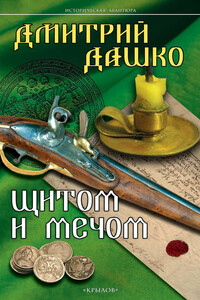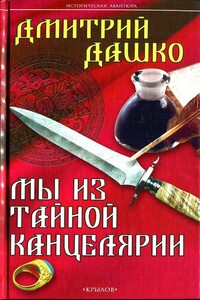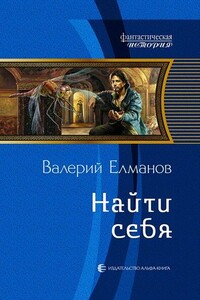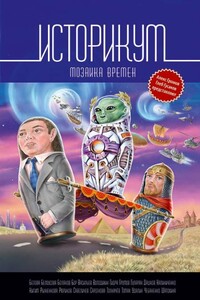«А ведь не врет латинянин, — пристально глядя в глаза Фридриха, уверился Евпатий Коловрат. — Ей-ей не врет».
Он склонил голову в знак того, что все понял, после чего произнес:
— Наш государь Константин никогда не забывает своих друзей, ни явных, ни тайных. А одну из услуг он сумеет оказать вашему величеству уже во время этого похода. Я так мыслю, что пойти в него вызвалось много знатных рыцарей, среди коих имеются и враги императора?
— В превеликом множестве, — подхватил Фридрих.
— Если выйдет так, что все они поплывут морем, то уже к осени ты можешь недосчитаться кое-кого из них. Конечно, выгоднее брать их в плен, но для своего союзника, пускай и тайного, наш царь охотно поступится своей выгодой. А самому императору я бы посоветовал не торопиться. Да и не думаю, что угорский владыка Бела так охотно пропустит вас. Если же кто-то из твоих ворогов пойдет с тобой, то лучше всего послать его полк первым.
— У тебя быстрый ум, посол, — только и сказал восхищенный Фридрих. — Но я надеюсь, что эту тайну не узнает никто кроме твоего государя.
— Будьте покойны, ваше величество, — низко склонил голову посол. — Мой государь любит говорить: «Если я решу, что мой боевой шлем знает мои тайные помыслы, то я немедленно расплющу его, причем сделаю это собственноручно». А тут и так получается целых три человека — император, посол и царь. И без того много.
— Но некоторых из моих недругов я только предполагаю уговорить отправиться в поход, поэтому их имена смогу сообщить не сейчас, а много позднее. Ты же, как я понимаю, столько времени ждать не будешь, — нахмурился Фридрих.
Коловрат несколько замялся, но затем вымолвил:
— Я слышал, что больше всего на свете император любит сарацинские клинки из дамасского булата. Как знать, может, скоро ему предложат купить один из них.
На этом они и расстались, довольные друг другом.
Коловрат через пару дней убыл обратно на Русь, а император начал такую активную подготовку к походу, что даже неистовый старец Григорий IX затих в Риме, настороженно наблюдая, как ненавистный Гогенштауфен усердствует в сборе войска и призыве всех герцогов, маркграфов, пфальцграфов и просто графов на борьбу с могущественным схизматиком.
По такому случаю Фридрих советовал всем забыть все свои обиды и по-христиански простить их, как это делает он сам. Учитывая, что самым первым, кого он навестил, был его злейший враг — герцог Брауншвейг-Люнебургский Оттон I, это рвение было явно не показным.
Многие обратили внимание на воистину просветленное лицо императора, которое светилось во всепрощающей улыбке, когда он покидал замок гордого Вельфа[179].
Только никто не заметил, как, уже уезжая и добившись согласия Альбрехта на участие в походе, Фридрих загнул палец на левой ладони и тихонько шепнул, кривя губы в той самой кроткой христианской улыбке, о которой потом донесли римскому папе:
— Один.
Затем его визиты последовали один за другим, и через пару месяцев, выезжая из очередного замка, на сей раз от маркграфа Браденбургского Иоганна I, он уже просто сжал свою крепкую могучую ладонь в кулак и произнес несколько устало:
— Пять.
Словом, поведение императора было столь благочестивым, что Конрад фон Лихтенау, пробст монастыря Урсперга, не преминул отметить это в своей хронике.
А где-то в конце февраля, когда император вернулся из очередной прогулки по соседям, его навестил улыбчивый немецкий купец. Был он родом из Мекленбурга, во всяком случае говорил с явно выраженным северным акцентом, сглатывая гласные. Внешность его была и вовсе непримечательная — торгаш как торгаш, разве что несколько непривычно молод.
Его поначалу и вовсе не хотели пускать к императору, но он показал такую великолепную саблю, которую хотел продать великому Фридриху II, что слуги, зная пристрастие своего господина к сарацинскому оружию, не решились отказать. Представ перед императором, купец ловко извлек саблю из ножен и показал опешившему Фридриху надпись на клинке. Латинские буквы гласили: «Русичам можно верить».
— Славная сабля, ваше величество, — заметил купец и ловко провел пальцем по надписи, отчего та мгновенно размазалась, став неразборчивой. — Прошу прощения, — тут же засуетился он. — Кажется, я несколько запачкал свой товар, а это не дело, — и он мгновенно извлек откуда-то кусок полотна, стирая ее окончательно.