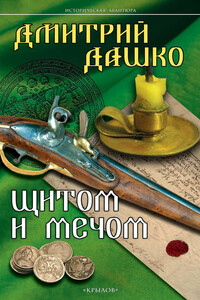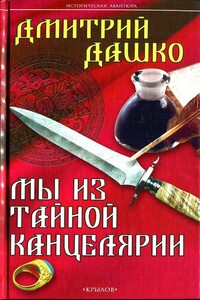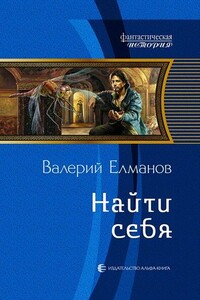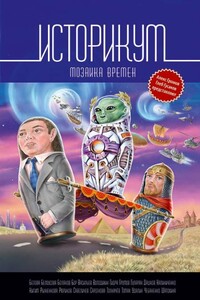Закончив наводить блеск на сверкающем лезвии, он аккуратно свернул тряпицу и уставился на Фридриха, но ошеломленный император продолжал молчать, и купец тихонько напомнил:
— Его величество так усердно трудился всю зиму. Неужто его труды были напрасны и он никого не сумел уговорить на воистину святое дело — проучить схизматиков и обратить в истинную веру язычников? Я, конечно, простой торговец, и это не мое дело, но если бы его величество поделился со мной, чем увенчался его тяжкий труд, то я не просто внимательно выслушал бы его, но и от души порадовался бы за императора.
— Ты что же, имена тоже на клинке писать станешь? — К Фридриху только теперь вернулся дар речи, и теперь он стремился за нарочитой грубостью скрыть свою недавнюю оторопь.
— Как можно, — несколько виновато улыбнулся купец. — Ведь этот булатный клинок останется у государя. К тому же зачем лишние письмена — бумага не прочна, а чернила легко размываются водой. И вообще, некоторые сведения нельзя доверять ничему и никому. Один мудрый человек заметил: «Если я решу, что мой боевой шлем знает мои тайные помыслы, то я немедленно расплющу его, причем сделаю это собственноручно».
В точности повторенные за послом слова разогнали последние сомнения хозяина замка, а купец продолжал свою журчащую речь:
— По роду занятий мне приходится заключать такие сделки, которые не стоит выводить пером, так что я привык запоминать, — и он вновь вопросительно уставился на императора.
— А постарше никого не нашлось? — проворчал ради приличия Фридрих.
— Увы, ваше величество. Но поверьте, что молодость — это единственный недостаток, который с годами непременно проходит, так что к следующему разу я обязуюсь немного исправиться.
— Тогда слушай, — произнес император. — Во-первых, это герцог Брауншвейг-Люнебургский Оттон I. Во-вторых, пфальцграф Рейнский Отто II. Третий — это бургграф Нюрнберга Конрад I. Моя печаль будет столь же велика, как полноводный Рейн, если я узнаю, что все трое погибли, ибо я так сильно их люблю, что…
Он скрипнул зубами, очевидно, от того неизбывного горя, которое вдруг его охватило при одной лишь мысли о гибели столь славных мужей, но был несколько бесцеремонно перебит купцом:
— Прошу прощения, ваше величество, но если вдруг мне придется быть поблизости от места прошедшего сражения и я увижу погибших воинов, то как мне отличить этих славных рыцарей, чтобы устроить им достойное погребение?
— Разумно, — кивнул император. — Значит, так. Если ты увидишь на белом серебряном поле черных горностаев, то…
— И снова прошу великодушного прощения вашего величества, но я плохо разбираюсь в гербах, — тут же перебил торговец. — Эти горностаи, они что, так и изображены на щите в виде зверьков?
— Разумеется, нет, — вздохнул император. — Это просто черные фигурки, напоминающие крестики, но книзу они кончаются тремя кончиками. Что-то вроде хвостика. Так вот, если ты увидишь такие фигурки, то знай, что их владелец не кто иной, как…
Увлекательная беседа продолжалась не менее часа.
Пожалуй, ни в один крестовый поход не отправлялась столь именитая публика, как в этот. И ни один из них не закончился таким оглушительным провалом.
Повинуясь приказу раньше времени не встревожить лихих вояк, чтоб не пришлось потом думать и гадать, какое местечко они изберут для своего повторного десанта, русские отряды позволили им без помех выгрузиться близ Ревеля. Все это время за высадкой внимательно наблюдали разведчики из спецназа, тщательно отмечая те шатры, владельцы которых подлежали безжалостному уничтожению в самую первую очередь. Константин честно выполнял обязательство, данное Фридриху от его имени Коловратом.
Когда рыцари, усталые от долгого путешествия по морю, уснули, а ближе к утру стали дремать и часовые, пришло время русичей, которые вышли из ближайших лесов, в абсолютном молчании окружили лагерь и приступили к страшной работе.
А потом наступил «Славянский рассвет». Вначале Вячеслав, обожавший звучные названия, окрестил операцию «Ночью длинных ножей», но Константин заявил, что негоже копировать Гитлера. Если уж давать ей имя, то свое, но такое же символичное.