и привел в систему. Он первый сгруппировал ее материал по отдельным предметам, и
сборник его «галахи» известен под названием «мишны рабби Акивы». Его опыт, по
всей вероятности, служил образцом для дальнейших сборников «галахи», также под
названием «мишны». Акива дал «галахе» свой метод и свою систему и так укрепил ее,
что о повороте назад не могло быть никакой речи, а оставалось только заботиться о
дальнейшем ее развитии. В «агаде» он тоже выдвинулся таким образом, что был
единственным счастливцем, который из области высшего знания мог вернуться не
затронутым в своих религиозных убеждениях. И в этой сфере известны так называемые
«Буквы рабби Акивы», в которых трактуется: о величии Божием, творении и
воскресении; о создании земного и небесного мира и их разрушении; о благодеяниях
Божиих; о возвышении бедных; о будущем творении; о совокупности букв Божьего
имени, переданных в откровении Моисею; о многих ключах, которых Бог не доверяет
ни одному ангелу; о раскаянии; о радостях благочестивых в раю; о человеческих
органах; о песнопении букв перед Всевышним и возвышении их до его короны; о душе;
о страданиях грешников после смерти, об аде; о храме и Св. Писании и его величии; о
сотворении органов человеческого тела для прославления Господа; о языке
человеческом; о рае, показанном Богом Моисею; о миссии Моисея; о поколении во
времена потопа и смятении при Вавилонском столпотворении; о наказаниях
безбожников в аду; о страстях и смерти человека (Талмуд Вавилонский, трактат
Берахот 13).
При чтении всего, что говорится Акивой, - излагают талмудистские толкователи, -
надобно иметь в виду не буквальный смысл изложенного, а внутренний, сокровенный и
главнее всего - цель. Так, в главе, которая служит земным целям, Акива, имея в виду
облегчение народу условий современной жизни, или связь нового закона с древним,
прибегает часто к такого рода объяснениям и развитию одной «галахи» из другой, или
из разных букв Св. Писания, которые носят на себе явные следы фикции, при помощи
которой достигаются благоприятные результаты. Тем более следует относиться с
большой осторожностью к учению его в «агаде», посвященной не земным интересам,
где ученый имеет в особенности в виду скрывать свою мысль от людей, коим
метафизика недоступна, и говорить поэтому намеками, ссылаясь сжато на указания,
смысл которых понятен одним специалистам.
Укажем, например, на следующее. Акива утверждает, что в Песне Песней
Соломона речь идет о любви Иеговы к своему народу и, согласно с этим основным
указанием, всем понятиям и выражениям этой эротической песни дается совершенно не
то значение, какое они имеют в устах возлюбленного. Такое применение идеи о любви
Бога к народу может показаться немного странным в устах ученого. Но дело
разъяснится, когда будет указано, в какое время и по какому поводу высказан был этот
взгляд Акивой. Речь шла о том, что Песнь Песней следует признать книгой
апокрифической, не подлежащей причислению к книгам библейским.
Итак Талмуд делится на две части - «галаху» и «агаду». «Галаха» была законом;
«агада», напротив, делом личного призвания. Таково существенное различие между
этими двумя отделами Талмуда. Изучая «галаху» в ее историческом развитии, невольно
замечаешь громадное влияние изменчивых условий политической и религиозной
жизни, которые постепенно порождали в Талмуде новые и новые предписания. Сами
талмудисты признают «агаду» в буквальном смысле, и на это есть указание в Талмуде.
«Некогда рабби Элиезер, по смерти своей, явился ученикам, которые спросили его, что
делает теперь Авраам на небе? Рабби Элиезер ответил им, что Авраам теперь прилег на
коленях у Сарры, и Сарра ищет в голове его. Когда один из учеников Элиезера
осмелился предполагать здесь аллегорию, то по общему приговору за эту дерзость
подвергся отлучению»1.
В Талмуде внешняя формальность важна не сама по себе, а по своей
всесторонности и общеприложимости, в силу которых, с принятием этой формальной
стороны всеми евреями ни один член еврейской общины внешним своим поведением и
обрядностью не отличается от другого; каждый из них по внешнему виду может узнать
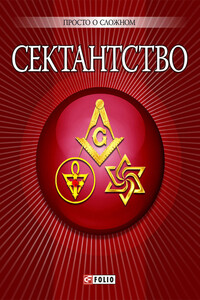
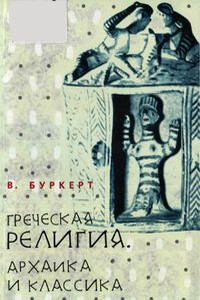
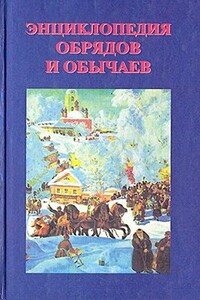
![Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/uploads/books/images/95/95f6ffb56eb7d32230aa92dfe99a268d2b7c17b6.jpg)