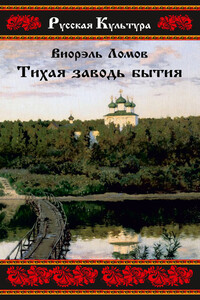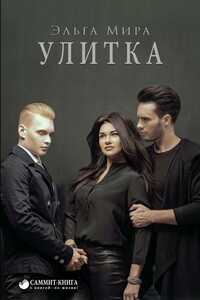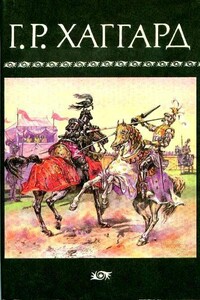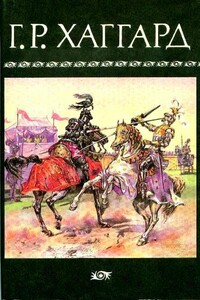Колм Тойбин
Завет Марии
Повесть
Теперь эти двое приходят чаще, и раз от раза их нетерпение растет, они хотят от меня все большего. Их кровь кипит, ради своей цели они ни перед чем не остановятся, и я, после всего пережитого, сразу такое чувствую, как чувствует преследуемое животное. Но сейчас меня никто не преследует. Уже нет. Сейчас обо мне заботятся, меня тихо расспрашивают, меня охраняют. Они думают, что я не догадываюсь, как необъятно задуманное ими. Но теперь от меня ничто не ускользает, разве что сон. Сон бежит от меня. Может, я слишком стара, чтобы спать. Или сон больше не принесет мне пользы. Может, мне больше не нужно видеть сны, не нужно отдыхать. Может, мои глаза знают, что скоро закроются навсегда. Если нужно, я не буду спать. Я спущусь к ним, как только рассветет, как только лучи солнца проникнут в комнату. У меня есть причина наблюдать и ждать. Прежде чем наступит вечный покой, нужно долго бодрствовать. И мне довольно знать, что конец когда-нибудь настанет.
Они думают, я не вижу, как в мире что-то постепенно разрастается, думают, я не знаю, зачем мне задают вопросы, и не замечаю, как мучительное раздражение тенью пробегает по их лицам и прорывается в голосах, когда я говорю что-то непонятное или бессмысленное, что-то ненужное им, или когда им кажется, что я не помню того, что, по их мнению, должна помнить. Ослепленные своим фанатичным стремлением и одурманенные остатками ужаса, пережитого всеми нами тогда, они не замечают, что я помню все. Что память наполняет мое тело, как кровь и кости.
Я благодарна за то, что они меня кормят, покупают мне одежду и защищают. За это я сделаю для них, что смогу, но не больше. Так же как я не могу наполнить легкие других воздухом, заставить сердца других биться, кости — не ломаться, а плоть — не увядать, я не могу и сказать больше того, что в моих силах. Я знаю, как им это мешает, и их горячее желание услышать новые нелепые истории или простой, ясный рассказ о том, что нам всем пришлось пережить, могло бы вызвать у меня улыбку, если бы я не забыла, как улыбаются. Мне больше не нужно улыбаться. И слезы мне больше не нужны. Когда-то я думала, что у меня совсем не осталось слез, что я их все выплакала, но, к счастью, такие глупые мысли не задерживаются в моей голове, их место быстро занимает правда. Если тебе действительно нужны слезы, они найдутся, ведь они возникают в теле. Мне слезы больше не нужны, и от этого должно стать легче, но я не хочу, чтобы мне стало легче, я просто хочу остаться одна и искупить свой грех, никогда больше не сказав ни слова неправды.
Один из тех, кто приходит, оставался с нами до самого конца. Тогда он был мягок, готов обнять и утешить меня — так же как теперь готов смотреть нетерпеливо и мрачно, если слышит не то, что хотел бы. Но я до сих пор вижу отблеск той мягкости: иногда его глаза начинают сиять, а потом он вздыхает и возвращается к своей работе, выводит одну за другой буквы, они складываются в слова, прочесть которые — он знает — я не могу. Слова о том, что произошло на том холме, и о том, что случилось раньше и после. Я прошу прочесть мне эти слова, но он не станет этого делать. Я знаю, он пишет о вещах, которых ни он, ни я не видели. Я знаю, он выражает словами пережитое мной и виденное им, и старается сделать так, чтобы эти слова имели значение, чтобы к ним прислушивались.
Я помню слишком многое, я — будто воздух в безветренный день: неподвижный, все обволакивающий. Как мир, бывает, затаит дыхание, так и я затаила свои воспоминания.
И когда я рассказываю ему о кроликах, я не говорю о чем-то, о чем забыла и вспомнила только потому, что он постоянно меня спрашивает. Я, хотя и прошло много лет, вижу все случившееся так же ясно, как свои руки и ноги. В тот день, о котором он расспрашивает, в день, о котором он хочет слышать снова и снова, в день, когда все смешалось, ко мне, среди ужаса, воплей и плача, подошел человек с клеткой. В ней сидела огромная злая птица, сплошной острый клюв и горящие глаза, птица, которая не могла полностью расправить крылья в тесной клетке и от этого злилась. Ей бы летать, выслеживать добычу, камнем падать на нее.