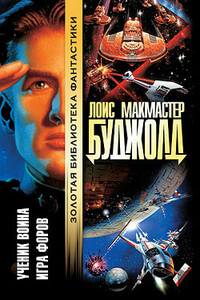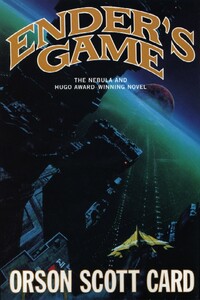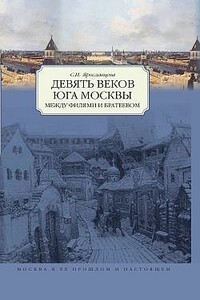— Я смотрел его глазами, я слушал его ушами и говорю вам: он тот, кто нам нужен. Настолько близок к идеалу, насколько это вообще возможно.
— Ты говорил это и о его брате.
— Брата использовать невозможно. По причинам, не имеющим ничего общего со способностями.
— То же самое с его сестрой. Да и он вызывает сомнения. Слишком податлив. Слишком охотно подчиняется воле других людей.
— Если только эти люди — не враги.
— Так что нам делать? Следить, чтобы его все время окружали враги?
— Если потребуется.
— Кажется, ты говорил, что тебе нравится этот парень?
— Если он попадет в лапы жукеров… По сравнению с ними я просто любящий дядюшка.
— Ладно. В конце концов, мы спасем мир. Бери его.
Женщина-наблюдатель мило улыбнулась, взъерошила ему волосы и сказала:
— Эндрю, я думаю, тебе смертельно надоел этот жуткий монитор. Так вот, у меня хорошие новости. Сегодня ты с ним расстанешься. Мы просто вытащим его. Это не больно, ни капельки.
Эндер[1] кивнул. Это была ложь, конечно, про «ни капельки». Поскольку взрослые врали так всякий раз, когда собирались сделать ему по-настоящему больно, он нисколько не сомневался в том, что будет. Иногда ложь говорила больше, чем правда.
— Так что ты, Эндер, просто подойди и сядь вот сюда, на стол для осмотра. Доктор выйдет к тебе через минуту.
Нет монитора. Эндер попробовал представить, что на его шее нет маленького записывающего устройства.
«Я смогу кувыркаться на кровати, и он не будет давить. Я не почувствую, как он щекочет и нагревается, когда буду принимать душ.
И Питер перестанет ненавидеть меня. Приду домой, покажу ему, что монитора нет, и он увидит, что я тоже не прошел и опять стал обыкновенным мальчиком, совсем как он. И тогда все будет не так плохо. Он простит мне, что я носил свой монитор на целый год дольше его. И мы станем…
Наверное, не друзьями, нет. Питер слишком опасен, он так легко сердится. Но братьями. Не врагами, не друзьями — братьями. И сможем жить в одном доме. Он не будет ненавидеть меня, а просто оставит в покое. И когда он захочет играть в жукеров и астронавтов, может быть, мне не придется играть с ним, а просто я смогу уйти куда-нибудь читать книжку».
Но Эндер знал, что Питер все равно не оставит его в покое. Было что-то в глазах Питера, когда на него находило это сумасшедшее настроение… И, вспоминая этот взгляд, этот блеск, Эндер знал: единственное, чего Питер не сделает, так это не оставит его в покое. «Я учусь играть на пианино, Эндер. Пойдем, будешь переворачивать мне страницы. A-а, мальчик с монитором слишком занят, чтобы помочь своему брату? Он что, слишком умный? Нет, нет. Я не хочу твоей помощи. Я прекрасно справлюсь сам, ты, маленький ублюдок, ты, маленький Третий».
— Это недолго, Эндрю, — сказал доктор.
Эндер кивнул.
— Его сделали так, чтобы можно было снимать. Не калеча, не внося инфекцию. Но будет щекотно, и некоторые люди говорят, что у них бывает такое чувство, будто что-то пропало. Ты все ищешь что-то, очень хочешь найти, но не можешь и уже не помнишь даже, что потерял. Так я скажу тебе: ты ищешь монитор. И его уже нет. А через несколько дней это чувство пройдет.
Доктор выкручивал что-то на затылке Эндера. И вдруг боль, как раскаленная игла, пронзила его от шеи до паха. Эндер почувствовал, как судорога сводит спину, как тело резко выгибается назад, — и ударился головой о стол. Он чувствовал, что ноги его бьются в воздухе, а руки сцеплены и до боли выкручивают друг друга.
— Диди! — позвал доктор. — Ты мне нужна!
Задыхаясь, вбежала сестра.
— Нужно как-то расслабить мышцы. Ко мне, быстро! Да чего же ты ждешь!
Они что-то делали — Эндер не видел что. Он рванулся в сторону и свалился со стола.
— Ловите! — крикнула сестра.
— Ты только удержи его…
— Держите его сами, доктор, он слишком силен…
— Да не сразу! У него же сердце остановится!
Эндер ощутил, как в шею, чуть выше воротника рубашки, вошла игла. Лекарство жгло, но всюду, куда доходил этот огонь, сведенные мышцы постепенно расслаблялись. Теперь он мог заплакать от боли и страха.