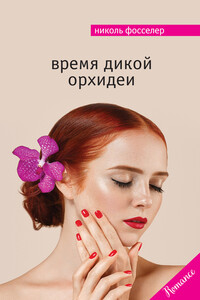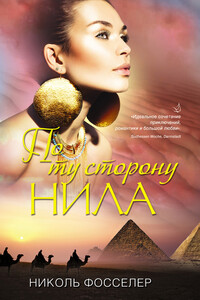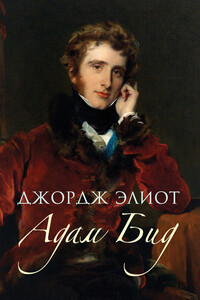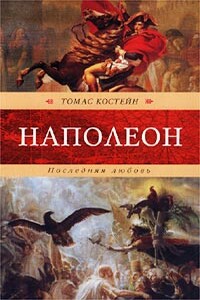Однако когда они появились перед узким высоким домом, стоявшим между похожими неприметными домами, то нашли его пустым и закрытым. Он никак не походил на открытый дом, в котором рады гостям в любое время, как рассказывали Тересе.
Приветливая соседка из соседнего дома объяснила им, что Майя Гринвуд Гаррет уехала на родину — в Англию, где ежегодно проводила здешние жаркие летние месяцы. И Тереса, Эмили и Генрих ни с чем вернулись в отель.
Но в Каире было что посмотреть и куда пойти. Кофейни и парки, великолепные улицы и площади, где сверкали в ночи роскошные дома. Узкие шумные переулки; мечети и минареты, церкви и античные развалины. Город в точке пересечения между Востоком и Западом и Африкой, блистающий всеми красками и оттенками различных культур, которые пронеслись над ним и оставили свои отпечатки.
— Куда это ты меня ведешь? — Задыхаясь и подобрав юбки, Эмили взбиралась на гору с Генрихом, гору эту было видно из всех точек города.
— В цитадель, — ответил довольный Генрих. — Тебя там ждет сюрприз!
Массивное сооружение, которое, казалось, ожидало их, звалось Каирской цитаделью, или Крепостью Саладдина, было окружено мощными стенами, а внутри возвышались стройные минареты. От вида на город, расстилающийся у их ног, просто дух захватывало: море крыш и башен, над которым мерцал солнечный свет, а городской шум и звуки, доносившиеся с улиц и из переулков, были подобны шелесту прибрежных волн. Не менее впечатляющим зрелищем было и то, что за лабиринтом стен на солнце сверкали купола мечетей.
— Мечеть Мухаммада Али, — шепотом пояснил Генрих ей на ухо, когда она с приоткрывшимся от удивления ртом стояла перед прекрасным сооружением и широко открытыми глазами впитывала в себя каждую мельчайшую деталь. — Хочешь войти?
— Да, — блаженно-взволнованно выдохнула Эмили, и ее пальцы крепко сжали руку мужа.
Если на Занзибаре мечети были простыми и без украшений, то мечеть, возвышавшаяся над Каиром, была изощренно украшена, — однако ее убранство совсем не перегружало ее. Возведенная на холме, она как бы венчала город, сверкая на солнце известняком песочного цвета и алебастром. Алебастр был отполирован до блеска, и казалось, что он светится изнутри; внутренний двор также был вымощен алебастром, а в тени изящного павильона — тоже из камня — помещался бассейн с водой для ритуальных омовений. Эмили по очереди восхищалась всеми колоннами и арками, а потом, задрав голову, стала рассматривать громадные купола, окруженные куполами поменьше, но от этого не менее впечатляющими. По бокам от мечети стояли два минарета, подобные стрелам, они были устремлены в небо. Только теперь Эмили поняла, почему Генрих просил ее захватить шаль, и она, согласно обычаю, закуталась в нее, прикрыв волосы и лицо.
У входа в мечеть они встретили сторожа, который дружески начал их приветствовать, но только, пока Эмили — по старой привычке — не захотела снять туфли.
— No-no-no, forbidden — Нет-нет-нет, запрещено, — на ломаном английском с раскатистым «р» заверещал он, замахав руками. Потом указал на кучу серых шлепанцев и объяснил при помощи жестов, что их следует надеть поверх обуви. Эмили и Генрих послушно надели каждый свою пару и заскользили по гладкому полу.
— Простите, — обратилась Салима по-арабски к сторожу. — А зачем нужно надевать эти шлепанцы? До сих пор мне этот обычай был незнаком.
Лохматые брови «гида» приподнялись, он сощурил глаза и строго окинул Эмили взглядом, шевельнув при том внушительным носом. Она смущенно поправила шаль — на всякий случай, если ее лицо прикрыто недостаточно, и именно это вдруг вызвало неудовольствие сторожа.
— Всем посетителям мечети, — с достоинством объяснил он на изысканном арабском в египетском варианте, — которые не придерживаются нашей веры, строжайше запрещено входить сюда без этих шлепанцев. Сюда, пожалуйста. — Его рука сделала приглашающий жест в направлении, куда им следовало пройти.
Эмили как будто оглушили.
Конечно, она была крещена, по имени тоже стала христианкой, но только сейчас, именно в этот момент, она по-настоящему осознала, какую жертву она принесла. Ради Генриха. Ради их сына. Ради своей любви и ради своей свободы. И теперь она не принадлежит исламу, но и в христианстве еще не обрела новой родины — если ее вообще обретет. Не Меджид обрубил все ее корни — нет, она сама это сделала, когда без особенных угрызений совести доверилась чужому Богу, о котором знала не слишком много и к которому какие-то чувства испытывала и того меньше. Толстых красных ковров, по которым она ступала рядом с Генрихом, она совершенно не ощущала — так же, как и не воспринимала короткие объяснения сторожа, или как что-то ярко-изумрудное, или как золотые украшения, сверкающие в свете масляных ламп. Весь этот блеск, вся эта могущественная, берущая за сердце красота во славу Аллаха ее не трогали.