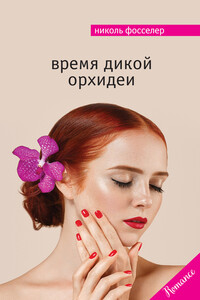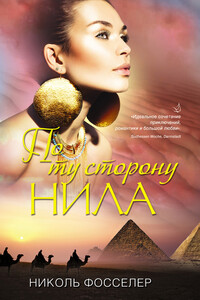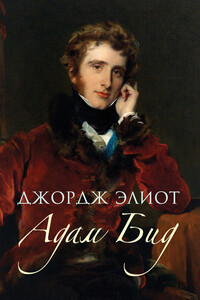— Биби… Жизнь моя, душа моя. Так поздно, но ты пришла… Прошу тебя, не плачь.
— Я постараюсь. Тебе очень больно?
Дыхание его стало прерывистым.
— Да.
— Где у тебя болит?
— В… в груди.
— О, Генрих, — вырвалось у нее. — Как только такое могло случиться?
У него вырвался сухой вымученный смешок.
— Это известно только Богу.
Четверть часа прошла слишком быстро. Слишком скоро вошла сестра милосердия и с мягким нажимом попросила фрау Рюте уйти. Эмили нежно поцеловала Генриха в лоб.
— До завтра. Доброй ночи, Генрих.
— Любовь моя, до свиданья, — прошептал он.
— Любовь моя, — ответила Эмили с тяжелым сердцем.
Иссушенную горем и выбившуюся из сил Эмили привезли домой, но о сне нечего было и думать. Завернувшись в шерстяное одеяло, остаток ночи она просидела на балконе, уставившись в небо, разглядывая звезды, которые здесь были совсем не похожи на звезды над Занзибаром — были далекими и не такими яркими. Когда эти северные светила совсем побледнели и небо заголубело, она пошла в детскую и долго смотрела на мирно спящих Тони, Саида и Розу, которые не подозревали о горе, нависшем над их беззаботным детством.
Эмили встала на колени, положила голову на край колыбели Розы и беззвучно заплакала.
Только в беспощадном свете нового дня обнаружились тяжелые раны Генриха. На голове и лице, на руках и ногах, на груди — всюду на повязках еще выступала кровь.
— Доброе утро, Биби, — приветствовал он ее, стараясь придать голосу бодрость, и протянул ей здоровую руку. — Ты пришла, чтобы пригласить меня на прогулку? — спросил он, как всегда, слегка поддразнивая ее.
Эмили улыбнулась и присела на край кровати.
— Да, нам надо придумать план, как нам выбраться отсюда, чтобы нас не заметили ни врачи, ни сестры милосердия, ни тот строгий привратник, и поскорее смыться отсюда домой.
Его рот дрогнул.
— Так, как ты тогда слиняла с Занзибара?
Эмили твердо встретила его долгий взгляд.
— Да — шепотом ответила она. — Как тогда.
— Ты еще помнишь, — спросил он тихо, — как мы с тобой познакомились — ты стояла на крыше своего дома, а я — у окна в своем.
— Я помню, — нежно ответила Эмили и легко провела пальцами по его лицу — там, где не было повязки или глубоких царапин, — я помню все и никогда ничего не забуду.
Страхи сейчас казались Эмили необоснованными. Генрих старался всем своим видом дать ей понять, что поправится. Что несчастный случай только поначалу показался серьезным и вызвал панику, а на самом деле серьезных последствий не будет; что он лишь немного растянул себе ногу и руку да еще получил несколько шишек и ссадин. Надо только набраться терпения плюс хороший уход — и он скоро встанет на ноги. И, казалось, так и будет. Они вспоминали свою жизнь на Занзибаре и строили планы на будущее — как они вернутся туда с детьми. Во время долгого разговора Эмили отгоняла мух веером, привезенным с родины, а назойливых мух в этот жаркий летний день в больничной палате было предостаточно. И здешняя обстановка немного напоминала те дни в Кисимбани, когда они друг подле друга сидели на веранде и думали, что все трудности, которые они преодолели, больше не повторятся.
Однако вечером у Генриха началась лихорадка, и он стал бредить. Эмили овладела тревога. Потом снова появилась надежда — когда он пришел в себя и потребовал, чтобы ему разрешили встать и дали поесть. Снова встревожилась, когда еще раз подскочила температура.
Эмили страдала. Страдала вместе с ним и за него.
Час за часом. Один день и еще один.
Когда силы Генриха на глазах стали убывать и он долго пролежал без сознания, Эмили не нужен был врач, чтобы узнать, как обстоят дела. Поздно вечером в их дом пришел домашний врач доктор Гернхардт, и очень мягко, щадя фрау Рюте, сказал, что врачи в больнице считают, что надежды больше нет. Несмотря на то, что Эмили уже весь день подозревала худшее, окончательный приговор ударил ее с невероятной силой. Как пораженная ударом молнии, она много часов просидела на том же месте, где оставил ее доктор Гернхардт. И в тишине молилась то о спасении Генриха — вопреки очевидности, то о том, чтобы Генриха скорее оставили земные страдания.