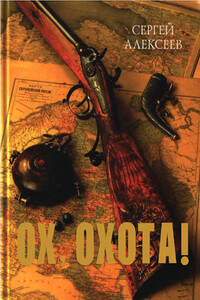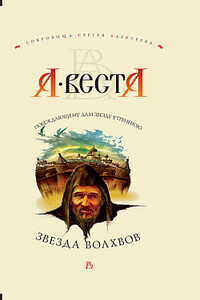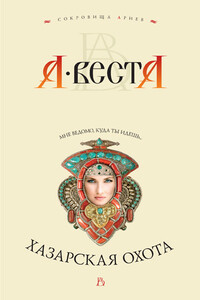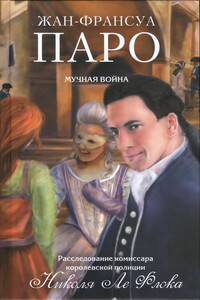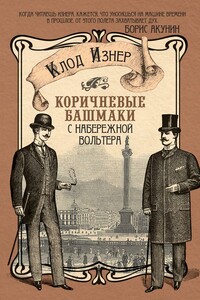Сашка подняла Грааль. Лунный свет наполнил чашу сиянием. Сколько рук прикасались к святыне? Где эти люди? Но чаша помнила каждого и, как знать, может быть, их отражения все еще блуждали в лабиринтах кристалла. Люди верили в святыню и передавали ее по тайной цепи верных. Цепь оборвалась, когда чаши коснулись нечистые руки.
Обрывками платья Сашка привязала Грааль к груди, как ребенка, широкой надежной перевязью. Тело колотила дрожь, ноги омертвели от холода. Она встала и, утопая в ледяной жиже, побрела к кромке болота, очерченной полоской леса.
Вдали воспаленным заревом светилась Москва.
Что-то страшное, гиблое отпускало ее навсегда. Она сбрасывала старый ороговевший покров, мешавший дышать и любить. Неизвестный грозный и прекрасный мир лежал перед нею, и все в нем было возможно и желанно.
Глава двенадцатая
Песнь Песней
В ноябре, по чернотропу, Алексей наладил кормушки для лосей и кабанов. Если вовремя не подкормить табунок, то оголодавшие лоси начисто срежут подлесок. Каждый день он обходил угодья, заглядывал в Тишкину падь и Знаменскую балку, но оставлять Ивана Егоровича одного с каждым днем было все тревожней. После Покрова старика выписали из больницы как безнадежного.
Гриня приходила каждый день на рассвете, и в темной продымленной избушке расцветала тропическая весна.
— Дай гармонь… Алешенька, — едва отлегало от сердца, просил Егорыч, оглаживал клавиши пустеющими пальцами, и под перебор «цыганочки», под всхлипы и стоны старых мехов Гриня выходила на середину горницы. Откинув плечи и потупив огненные очи, начинала свой поначалу медленный, но с тайным накалом танец. И повинуясь нарастающим звукам и взвизгам гармони, вдруг раскрывалась вся, как летящая птица, и взмахами черного плата и дрожью плеч и всем своим телом рассказывала что-то страстное, мучительно близкое. Вздрагивал на плечах черный платок в ярких розах, струилась бахрома, мягкую дробь выводили стройные ноги, обутые в заячьи «коты», и под тонкой кофточкой брыкались груди, как непокорные козлята. От пляшущей Грини жаром обдавало стены, почище чем от настоявшейся печи.
И «домовеей» Гриня оказалась отменной. Благодаря ей все в избе и на подворье было чисто и прибрано. Каждая вещица и посудина вычищенные и умытые красовались на своем месте. Даже конюшня держалась на Гринином усердии. Капризная лошаденка задавала жару. Ей ничего не стоило ударом копыта опрокинуть ведро и потом долго гонять его по стойлу, наслаждаясь звоном. Мало смысля в коневодстве, Алексей в один из первых же дней едва не застудил ей легкие. Но к первому зазимку лошаденка оправилась от теплых настоев, медового сена и хозяйской ласки.
Однажды утром сквозь рассветный сон услышал Алексей глухие удары и тонкое, ломкое ржание. На дворе заливалась лаем Велта. Дели била копытом, грозя разнести дощатую дверь конюшни. Алексей босиком, в одних подштанниках, выскочил на свежий снежок, выдернул засов из дверей конюшни и едва устоял на ногах. Грудью вперед, горделиво вскинув голову и победно задрав хвост, из конюшни вылетела Дели. Она сделала круг по двору и заливисто заржала.
Алексей счастливо огляделся. В окно, сморщившись от смеха, смотрел Егорыч. Значит, сам приподнялся, чтобы глянуть в заметенное оконце и полюбоваться на «заморыша», как окрестил лошадку старик.
Что сказать? Обманули цыгане… То, что Алексей принял за изящество и высокую породу, старик осудил как слабость и рахит. Старый лесник разглядел у Дели сразу несколько лошадиных хворей. Осмотрев зубы, он объявил, что кобылке уже года три и она больше не вырастет. А уж узнав, сколько отвалил Алексей за «подругу», и вовсе разобиделся.
— Да, слышал бы ты, как цыгане лаялись, продавать не хотели… — оправдывался Алексей.
— Тьфу… Что возьмешь… Пехота… Моему деду цыгане ночью слепого мерина за жеребца продали. Слыхал такую притчу? «Черный глаз» угощает калачом, а спину метит кирпичом.
Алексей оставил лошадку гарцевать на огороженном поскотиной дворе, а сам заспешил к старику.
Егорыч лежал на кровати, задрав бороду, по морщинистому виску стекала слеза. В руках была зажата скомканная тельняшка из «смертной укладки».