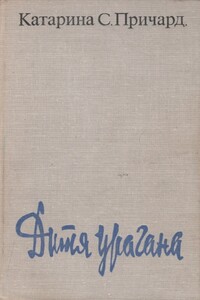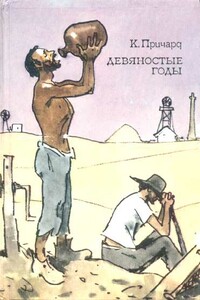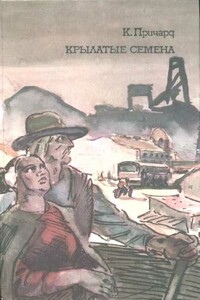Дик был ранен и лежал в госпитале, и Салли могла теперь собраться с мыслями. Он написал, что голосовал против воинской повинности и что в его взводе, находящемся во Франции, почти все поступили так же. Среди нас нет таких, писал он, кому жизнь в армии настолько пришлась бы по вкусу, чтобы он поверил, будто ее нужно навязать каждому австралийцу.
«Самым счастливым днем в нашей жизни, — писал Дик, — будет тот день, когда мы вернемся домой и распростимся с армией. Мы уже сыты ею по горло, Салли моя! Хорошо Билли Юзу говорить, что «союзные генералы многому научились» после наступления у Соммы и после Позьера (двадцать тысяч убитых и раненых за месяц!). А у нас почти все считают, что они нам еще должны доказать, что война ведется правильно, прежде чем мы согласимся послать на фронт наших младших братьев. Ребятам не по нутру, что в Англии рядовой солдат не имеет права закусить или выпить в ресторане, где бывают офицеры. Трудно себе представить, насколько эти правила и необходимость поминутно отдавать честь влияют на отношение австралийских солдат к английским военным, которые пользуются гораздо большими правами, чем мы. Скажи папе, что я натяну свои боксерские перчатки и хорошенько погоняю его по двору, если он будет голосовать за воинскую повинность».
Моррис был потрясен письмом Дика, но сказал, что Дик пишет так главным образом под влиянием тревоги за Тома и Дэна. Оба они по роду занятий не подлежали призыву, и Моррис уверял, что закон о воинской повинности их не коснется. Но надо быть готовым ко всему. Число добровольцев все уменьшается, а войну необходимо выиграть.
Моррис не сомневался, что Салли, как и прежде, поможет ему распространять листовки, призывающие голосовать за воинскую повинность.
— Нет, Моррис, — решительно сказала Салли. — Я больше не верю, что воинская повинность пойдет на благо австралийскому народу. Подкрепления ведь посылались. Я больше ни на грош не верю этому правительству.
Как-то вечером Том вернулся домой весь грязный и растрепанный. На лбу — глубокий порез, лицо все в синяках. С ним была Эйли, и она тоже выглядела ничуть не лучше.
— Небольшая потасовка с пьяными солдатами, — небрежно пояснил Том матери и ушел мыться.
Эйли вся дрожала и чуть не плакала.
— Они повалили Тома на землю и начали пинать ногами, — сказала она Салли. — Не знаю, что бы с ним стало, если бы я не подняла крик. Прибежали Барней Райордэн, Петер Лалич и еще два или три рудокопа и отбили Тома. Он выступал на Хэннан-стрит, и эти солдаты весь вечер пытались сорвать митинг, но нас окружали свои люди. Кто-то крикнул: «Эй, ребята, Том Гауг — наш товарищ, и мы хотим послушать, что он нам скажет. А если вам не интересно, — скатертью дорога». Тогда солдаты кинулись на трибуну, и произошла потасовка. Председатель закрыл митинг, и мы с Томом выбрались из толпы. Но трое пошли за нами, и я все время боялась, как бы чего не случилось. Том шел спокойно и сказал мне, чтобы я не вмешивалась, если они задурят. Но разве я могла его оставить?
— Она просто вцепилась в них и вопила, пока не прибежали Барней, Тед Ли и еще кто-то из наших, — сказал Том, входя в комнату. — Ей тоже здорово досталось от этих хулиганов.
— Как вы себя чувствуете, Эйли? — с тревогой спросила Салли. — А ты, сынок?
Она вышла и принесла таз с водой, чтобы обмыть Тому разбитый лоб.
— Ничего, мама, немножко пошатывает, да ты не беспокойся, — сказал Том, стараясь преодолеть головокружение. — Хуже всего был удар в пах. Меня так и скрючило.
Салли была потрясена и перепугана. Стало быть, Том прав, когда говорит: война — войне. Том борется за интересы рабочего класса, против введения воинской повинности, а с ним обращаются, как с врагом народа и родины. Она думала было послать за врачом, но Том и слышать об этом не хотел.
— Высплюсь и завтра буду совсем здоров, — сказал он.
Том пошел к себе, но на пороге обернулся и с застенчивой улыбкой посмотрел на Эйли.
— Спасибо, товарищ, — сказал он мягко. — Она замечательная девочка, правда, мама? Оставь ее у нас ночевать, ладно?
Когда Том вышел, Эйли расплакалась.