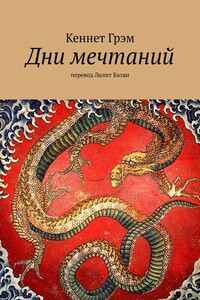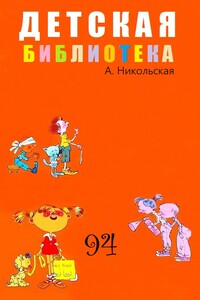Когда мы выбрались на темную лестницу, за окном по-прежнему бушевал ветер, но мы не решились нарушить обет молчания и, ухватившись за ночные рубашки друг друга, ведь даже альпинисты перевязываются веревкой в опасных местах, начали спуск с лесницы-ледника, вперед, сквозь мрачный, не менее обледенелый холл, к гостиной, приоткрытая дверь которой манила нас, как манят усталых путников приветливые огни постоялого двора. Оказалось, что расточительные взрослые не потушили звучащее сердце огня, и оно рассыпалось в камине веселыми искрами. На столе осталась полная тарелка пирожных, подбадривающе улыбавшихся нам, вместе с дольками лимона, выжатыми, но вполне годными для рассасывания. Пирожные были честно поделены на равные части, а дольки лимона передавались от одного рта к следующему. Ласковое тепло камина, вокруг которого мы расселись на корточках, подействовало утешительно на наши продрогшие конечности и навело на мысль, что ночное приключение было предпринято нами не зря.
– Смешно, – сказал Эдвард, – я так ненавижу эту комнату днем. В ней всегда надо быть умытым, причесанным и вести глупые светские разговоры. Но сейчас, ночью, в ней очень хорошо. Она выглядит даже как-то по-другому.
– Никогда не мог понять, – сказал я, – зачем люди приходят сюда пить чай. Они могут пить чай с вареньем и другими вкусностями дома, если им так хочется, они ведь не бедняки, и дома можно пить из блюдечка и облизывать пальцы и вести себя так, как хочется, но они приходят сюда издалека, и сидят прямо, ровно поставив ноги, и пьют не больше одной чашки, и говорят каждый раз об одном и том же.
Селина презрительно фыркнула.
– Много ты понимаешь, – сказала она, – В обществе принято посещать друг друга. Так полагается.
– Уф, нашлась светская дама, – вежливо ответил Эдвард. – Ты вряд ли вообще ею когда-нибудь станешь.
– Еще как стану! – отпарировала Селина. – Но тебя в гости не приглашу.
– А я и не приду, даже если попросишь, – прорычал Эдвард.
– Ни за что не получишь приглашения! – отозвалась сестра, она любила, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней.
Эта лишенная теплоты беседа наглядно продемонстрировала нам искусство вежливого разговора.
– Мне не нравятся светские люди, – подал голос Гарольд.
Он вальяжно растянулся на диване, что никогда бы не позволил себе в светлое время суток.
– Тут было несколько таких днем, когда вы ушли на станцию. Я нашел дохлую мышь на лужайке и хотел содрать с нее кожу, но не знал, как это сделать, и тут они вышли в сад и стали гладить меня по голове (почему им обязательно нужно меня гладить?) и одна из них попросила сорвать для нее цветок. Что она не могла сорвать его сама? Я сказал: «Хорошо, я сорву вам цветок, если вы подержите мою мышь». Тут она завизжала и бросила мышь, а Огастес (кот) схватил ее и убежал. Наверное, это и правда была его мышь, потому что я видел, как он искал что-то. Я не обиделся на Огастеса. Но почему она, все-таки, выбросила мою мышь?
– С мышами надо поосторожней, – задумчиво сказал Эдвард, – они слишком скользкие. Помните, как мы играли с дохлой мышью: положили ее на пианино, она была Робинзоном Крузо, а пианино – островом, и как-то получилось, что Крузо соскользнул внутрь острова, в сам механизм, и мы не могли достать его оттуда, даже граблями, а потом пришел настройщик. Помните, он пришел через неделю после нашей игры…
И тут Шарлотта, все время клевавшая носом, грохнулась прямо на каминную решетку. В этот момент мы поняли, что ветер перестал, и дом окутан великим безмолвием. Мы чувствовали властный зов пустых постелей, и очень обрадовались, когда Эдвард дал сигнал к отступлению. Наверху лестницы Гарольд неожиданно взбунтовался: он настаивал на своем праве свободного человека съехать вниз по перилам. Времени для споров не было, поэтому я предложил дотащить его силой, распластав, как лягушку, за руки и за ноги. Мы торжественно прошествовали сквозь залитую лунным светом Голубую комнату с бунтующим Гарольдом в горизонтальном положении. Я уже проваливался в сон в своей уютной постели, как вдруг услышал фырканье и хихиканье Эдварда.