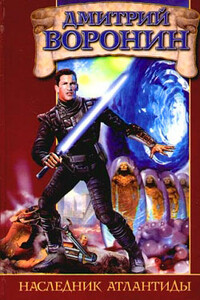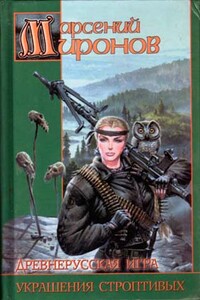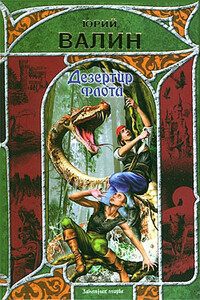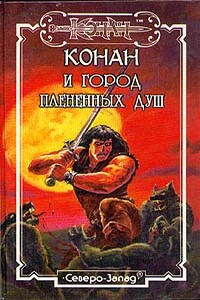— Как я истосковался по твоему телу... Бела, как снег, твоя кожа и, как снег, тает под моими пальцами. Никогда никому не говорил раньше таких слов — словно ждал тебя всю жизнь и берег их для тебя одной... — ...От груди к ключице, через шею, затылок — к другой ключице, спускаясь той же дорогой, какой поднимался, с такой же мгновенной остановкой у другой груди. — Теперь ты... Не бойся, просто дай волю своим рукам и губам, девочка моя — твое тело знает об этом много больше, чем ты сама.
Огонек лампы тускло отразился в бронзовом кольце, стянувшем своеволие его волос. Единственная вещь из прежней жизни, которую Малабарка упорно хранил, хотя имперцы порой бросали косые взгляды на такую прическу. Однажды он обмолвился, что до него эту вещь носил его отец...
Но сейчас мои руки легли на его плечи, соединились на затылке, обнимая, и разомкнули кольцо, освобождая волосы из плена. Я пропускала это богатство сквозь пальцы, одновременно слегка касаясь его шеи — от корней волос до ямок над ключицами.
Затем скользнула рукой за воротник рубашки, окуная пальцы в ласковое тепло...
— А я истосковалась по твоему теплу, — произнесла я ему в самое ухо одними губами. — По твоему теплу и еще по запаху твоей кожи.
Да, именно так — тепло и запах. Не то чтобы я не была способна любоваться мужским телом, вовсе нет — просто всегда словно слепла, когда дело доходило до настоящей близости. Тот, кто дарил моему телу песню наслаждения, виделся мне прекраснее не только людей, но и богов — но смотрела я на него не глазами, а чем-то еще... словно проникая сквозь оковы плоти, напрямую касалась того, что не ведает смерти. Сейчас это ощущение было сильно, как никогда — сверкающая сущность Малабарки текла сквозь мои пальцы, и этим пальцам не было никакого дела до отметин прежней боли, навсегда врезанных в тело любимого человека.
Осторожно распустив шнурок у ворота, я потянула с его плеч льняное полотно. В ответ его руки снова коснулись моих колен, расстегивая пряжки сандалий, а затем медленным ласкающим движением избавили мои ноги от путаницы ремешков.
— Правильно: снимем все, что нам мешает. Пусть останемся только ты и я — тело и тело...
Его губы на моей щиколотке, под коленом, на бедре — нежность, непередаваемая нежность прикосновения к высшей святыне. Только теперь я до конца ощутила смысл обычного присловья наших сказок, когда речь заходит о близости героев: «Воздал ей честь сначала руками, потом губами и, наконец, всем, что у него было». Я постаралась ответить, как умела, лаская его грудь, и высшей наградой мне был хриплый стон, сорвавшийся с его губ.
Мы не торопились. Для всего, что у нас есть, пора придет в свой срок, а пока пусть будут только руки и губы...
То, что было после, удержалось в моей памяти весьма приблизительно: видимо, из-за полного отсутствия слов, в которые можно было бы перелить это, необыкновенное... Казалось, что руки Малабарки везде: на моей груди, животе, бедрах, и тело под их касаниями расцветало огнем запредельного наслаждения. А как я сама отвечала на эти сверкающие дары, сознание и вовсе не удержало — волны наслаждения катились через него, как через песчаную косу, и без следа смывали все, что было начертано на этом песке. Я даже не могла бы точно сказать, сколько раз мы сливались воедино — три или все-таки только два.
Все, что удавалось вспомнить, — то, что в один из этих раз я, сидя сверху, свернулась в кольцо так, что мела волосами по собственным ступням, и мимолетно удивилась, откуда вообще взялась такая странная поза.
Сколько времени это все длилось, я могла только гадать. Наконец, наши объятия распались сами собой — плоть обессилела раньше, чем внутренний огонь. Мы слегка откатились в разные стороны, не желая красть друг у друга пространство для отдыха, и блаженно вытянулись на измятых и скомканных шелках.
— Как прекрасно это было... — прошептала я, пряча лицо в подушке. — Я даже представить себе не могла, что можно взлететь ТАК высоко...
— Теперь ТАК будет каждый раз, — отозвался Малабарка, и усталость мешалась в его голосе с какой-то необыкновенной тихой радостью. — Когда захотим, тогда и будет. Веришь ли?