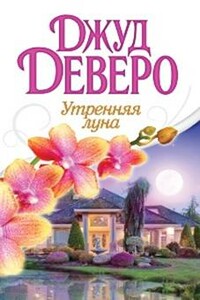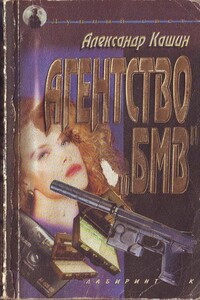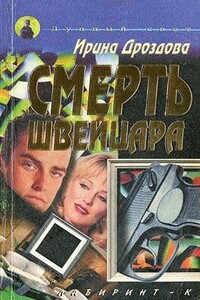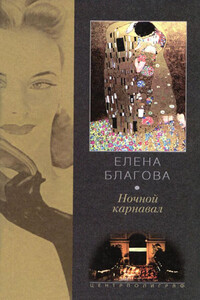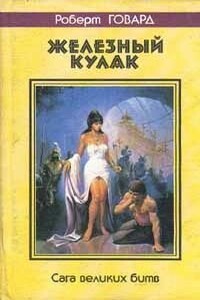Он поставил самодельный светильник на стол, чтобы она смогла его ощупать. Она с серьезным видом прикоснулась пальцами к округлой глине, окунула пальчик в жир. Повернула невидящее лицо к карлику. За ее улыбку он готов был отдать жизнь.
– Это то, что надо. Ты умница, ты прелесть, Стенька. Посреди ночи все добыть!..
«Если вы прикажете, я добуду для вас звезду с неба», – хотел сказать он и не сказал.
Она сидела молча, неподвижно. Карлик вздохнул.
– Зажечь?.. Вы же хотели живой огонь?..
Она кивнула:
– Зажги.
Он взял со стола зажигалку – курящий Кирилл повсюду швырял зажигалки, – щелкнул раз, другой, и фитиль зажегся, зачадил. Сначала от скрученной веревки пошел дым. Потом пламя выровнялось, стало гореть ясно и ярко. Жизель сидела тихо, повернув лицо к огню. Пламя плясало в ее незрячих глазах. Казалось, она была довольна.
– Все, Стенька. А теперь иди спать. Я утомила тебя. Ночью люди должны спать, а не исполнять сумасшедшие приказы бедных слепых. Но ты зажег мне живой огонь, мой родной, тот, что я все время вижу во сне и наяву, и я тебе благодарна.
Карлик исчез, как обычно, незаметно, бесшумно, ступая, как кот, кривыми ножками по паркету. Она осталась одна.
Пламя, пламя. Как я хочу взять тебя в руки. Я сижу у входа в древние катакомбы. Туда, по узким каменным коридорам, проходят люди – молиться. Они молятся своим богам. Они молятся… какому Богу?.. А я сижу у входа, и я слепа. Я раздаю приходящим светильники, плошки с горящим жиром. И они берут их в руки и идут во тьму. Берут в руки свет. Мой свет, что я даю им.
Рядом со мной много таких горящих светильников, не один. И я нашариваю их пальцами, и обжигаю себе пальцы, и улыбаюсь. Люди, чтобы узнать истину, должны обжечь себе пальцы. Я, чтобы узнать истину, должна была быть убита.
Но я воскресла. Золотая маска, помоги мне! Помоги мне умереть! В последний раз…
И за дверью послышался стук. Стук сапог о паркет.
Она повернула лицо от горящего светильника. Маски, освещенные ровным пламенем, лежали перед ней на черных подушечках.
В дверь вошли. Когда карлик выходил, она не встала, не закрыла за ним дверь на защелку.
В дверь вошли чужие – она поняла это, услышала. Она не испугалась.
– Кто вы такие?.. что вам здесь надо?..
Вошедшие молчали. Она услышала скрип стульев. Они садились.
– А ничего рубашечка, вся в кружевах, стильная, – раздался незнакомый ей голос. – Черт знает какой прикид. Черт знает какой дом. Домина. Такой и должен быть, по идее, у знаменитого Козаченко. Гляди, как мы отлично попали. Товар-то лежит лицом.
Если бы она могла их видеть, она увидела бы, что их вошло трое. Все они были коротко, под машинку, пострижены, как призывники – это была модная стрижка, стрижка нового века. Они сели вокруг нее, взяв ее в кольцо. Она слышала их дыханья со всех сторон. Если бы она могла видеть их глаза, она увидела бы: все глаза одинаково холодны и насмешливы. Это насмешка была такая: вот в античном цирке на арене человека убивают копьем, загрызают его дикие звери, – а они, трое, среди публики бы сидели и смеялись. Светлая стрижка, светлые прозрачные глаза. Свет светильника освещал модные часы у них на сытых запястьях. Она раздула ноздри и уловила запах модных, дорогих мужских духов. О, быть может, это друзья Кирилла. И голоса у них молодые. Про какой товар они говорят?!
– Сидеть тихо, красотка кабаре. Не двигаться! Шевельнешься – пеняй на себя!
– Ты что, окстись, Ефа, не видишь, она же – слепая…
– Кто вы?! – крикнула она.
В тишине раздался смешок. Если бы она могла видеть, она бы увидела, что смеялся тот, что был дородней всех, тот, что сидел прямо напротив нее. Он немного похохотал и бросил.
– Тебе необязательно это знать, красотка. Мы пришли, чтобы доделать недоделанное.
И ее душа будто выпорхнула, как птица, из тела.
Она увидела сверху себя и всех троих. Она поняла – это те, кто пришел убить ее. Те, кто не добил тогда там, в машине, ее и Кирилла.
– Здравствуй, смерть, – сказала она, улыбаясь, и губы ее задрожали.
– Понятливая! – хохотнул уже другой, тот, что сидел от нее слева.
– Начинай, – сказал голос справа.
– Я не могу… она такая нежная, ха-ха… и не видит ничего…