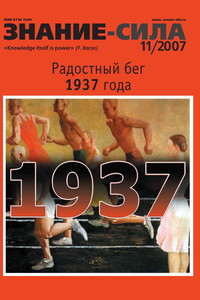В советской науке, которая, как известно, по ряду причин в течение десятилетий вела исследовательскую жизнь, достаточно обособленную от западной, можно выделить два основных направления исследования мифа: этнографическое (представители которого, достаточно жестко связывая религию и мифологию, выявляли в них отражение социальной организации и производственных практик) и филологическое. В двадцатых – тридцатых годах ряд очень сильных исследователей (О.М.Фрейденберг, И.Г.Франк-Каменецкий, И.И.Толстой, И.М.Тронский) связали исследование античного мифа с изучением, во-первых, фольклора, используя его для реконструкции мифов, во-вторых, с вопросами семантики и поэтики. Во многом они предвосхитили структурализм, как, впрочем, и В.Я.Пропп, который в своей «Мифологии сказки» (1928) заложил основы структурной фольклористики. Одному из самых авторитетных отечественных исследователей мифа А.Ф.Лосеву принадлежит формулировка очень характерного для XX века представления о мифе, согласно которому он вовсе не имеет познавательной цели – как и никакой «цели» вообще, – а представляет собой «непосредственное вещественное совпадение общей идеи и самого обыкновенного чувствительного образа». М.М.Бахтин в своей книге о Рабле показал, как миф и ритуал – через народную, «карнавальную» культуру – связаны с художественной литературой.
И как же все-таки сейчас видит миф в целом наш современник-европеец? Самое общее и основное представление, выработанное XX веком, пожалуй, будет вот какое. Миф – это самая ранняя форма переживания, восприятия, толкования мира, свойственная первобытным и древним обществам, из которой впоследствии, в процессе развития, выходят, обособляясь, все остальные. Мифическое мышление своеобразно как в своей логике, так и в своей психологии. Основные особенности его – чувственная образность, конкретность, эмоциональная окрашенность всех представлений, одушевление и очеловечивание всего в мире, неразличение вещи и ее свойств, слова и события, имени и сущности, субъекта и объекта, внешнего и внутреннего.
Исходя из всего этого, можно принять тезис, что миф целиком преодолевается по мере выхода общества из первобытного состояния и, если сохраняется, то лишь рудиментарно, в тех областях культуры и жизни, которые еще недостаточно рационализированы.
Но можно принять и антитезис: миф никуда не уходит, все последующие формы мировосприятия только надстраиваются над ним, а он всех их держит на себе, объединяет, питает жизнью – и порождает новые.
В последние два века у слова «миф» сложилась еще одна, вполне самостоятельная и устойчивая группа значений. Так стали называть иллюзорные представления, которые, в частности, умышленно используются силами, господствующими в данном обществе, чтобы манипулировать массами. Фактически речь идет об идеологии в ее массово принятом, неотрефлектированном виде. Совокупность «предрассудков», диктуемых не столько разумом, сколько эмоциями, привычками, тайными желаниями, которые разум порой «превращает» самым удивительным образом, но отказаться от которых он не может. Таким образом, появилась целая область исследований, известная под названием социальной или политической мифологии.
Легко заметить, что у всех современных образов мифа есть в конечном счете нечто общее. В каждом из них миф предстает как, во-первых, целостное, во-вторых, массовое – общее для всех или для многих членов данного общества – переживание реальности, скорее в образах, чем в понятиях» которое предшествует любому теоретизированию и анализу.
Вот в чем существенное отличие выработанного в XX веке восприятия мифа от всех остальных: только он увидел, что миф неустраним вообще, независимо от усилий по его созданию, возрождению или изгнанию. Он открыл историю как, по существу, мифологический процесс, а человека – как существо по природе мифопорождающее. Можно сказать, что в этом веке родился очень влиятельный миф о мифе.
Между мифом и человеком обычно стоит защитный фильтр культуры – осознанных корректирующих норм и традиций. На разломах истории они не раз оказывались сокрушенными, и европейскому человеку открылось то, на чем они все держатся. Этот пласт мировосприятия, предшествующий традициям, и можно назвать мифом. То, что он унаследовал свое имя от мифологии первобытной и древней, в своем роде историческая случайность, но не только. Архаические мифы – исторически первый и всеобъемлющий опыт «мифической» цельности, безусловности, черты которой неизбежно будут наследоваться всеми последующими.