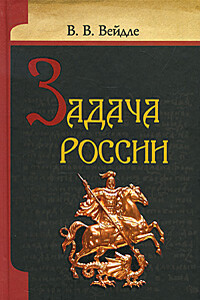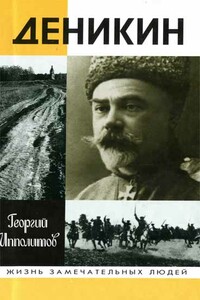На премьере «Прометея», в переполненном Дворянском Собрании, я видел, как подскакивает Скрябин на своей вертушке: удавалось‑таки ему, где нужно, перекричать громовой голос оркестра вэдребезжавшим ввысь бешеным рояльным гслооком. Потрясал «Прометей»; глагол этот мнсготерпеливый тут незаменим. Когда поднялось, незадолго до конца, неслыханной силы крешендо, я не мог усидеть на отуле, встал, и увидел: там и тут, другие, не столь юные, как я, тоже поднялись со своих мест. Не считаю — и тогда не считал — такую степень воздействия критерием оценки, не пустоты, в этом грохоте и звоне, в этом выдыхе труб, исступлении скрипок, отнюдь я не ощутил, не устыдилоя своего порыва, и поэтому, как вспомню, умиленно вижу и сейчас руки легенького человечка, с высоты бросающего их на клавиши.
Вагнеровский «Тристан» под управлением Феликса Моттля, в начале 1913–го года, был событием в музыкальной жизни Петербурга. Событием был и в моей жизни, не музыкальной — какой же я музыкант? — но в жизни моей вообще (внутренней, конечно, а не внешней). «Вагнерианцем» давно перестал я быть, от этого первого увлечения моего еще в молодости отошел, хоть и дорого мне осталсоь многое в музыке «Кольца» или «Парсифаля»; но «Тристана» я и вообще не превозмог. Слушать его не могу и теперь без особого, им одним вызываемого во мие волнения, как и не могу не сравнивать любого исполнения его с тем, моттлевским, в Мариинском театре. Всех Изольд сравниваю с Черкасской, всех Тристанов о Ершовым, и нахожу непревзойденным и его, несмотря на сдавленный его голос, не говоря о ней, и вовсе не верю, что возможно превзойти Моттля, которого никто — для меня — не заменил, и уже наверное не заменит никогда.
Поставлен был у нас «Тристан» — Мейерхольдом, с декорациями Шервашидве — очень хорошо. В обход вагнеровокнм ремаркам, палуба первого акта, сад второго, корнуэльские скалы третьего были даны очень обобщенно, без того раздутого и самохвального реквизита, что уже в замысле вагнеровских драм, и еще больше в тогдашних их постановках, так вредил их сценическому воплощению. Я присутствовал на премьере «Тристана», за год приблизительно до приезда Моттля, при тех же певцах и том же оркестре, сухо, но компетентно управляемом Направником. Все было на месте. Все было не просто хорошо: чудеоно. Мей восторг и тогда был велик. Даниил Ильич проиграл мне заранее вою эту музыку на рояле, даже и пропел мие ее почти вою. Научил и меня играть те страницы клавираусцуга (вступление, например), что были доступны слабому моему уменью. Зачарован был я уже «Тристаном», но эти чары лишь предварительными сказались, когда выписан был из Мюнхена мясник–чародей и неведомым волшебством околдовал оркестр, околдовал певцов, а сквозь них, оквезь каждый голос инструмента и певца, сквозь веоь стоголосый оркестр, околдовал и всех, кто слушал вместе оо мной совсем по–новому зазвучавшего «Тристана».
Нет, не совсем по–новому. Не переделывал его Мсттль, не истолковывал произвольно на новый лад, да и нашего прежнего не исправлял: ничего не было в до–моттлевском нашем «Тристане» ошибочного, неверного. Просто–напросто (так мне казалось)превращение потенциальной его музыки в актуальную не было доведено до конца, остановилось на полпути, а теперь Моттль дал ей полноту ее самой, полноту ее осуществленного звучанья. Как он принялся за это дело я через несколько дней узнал от Данички.
Он потребовал одной лишь репетиции, — накануне торжественного дня. Обратился перед ее началом к оркестрантам и певцам, чтобы попросить их играть и петь точно так же, как они это делали до тех пор: «Я прослушаю вас от начала до конца; дирижировать не буду; буду просто, для вашего удобства, отбивать такт, а вы мне показывайте ваши темпы, замедления, ускорения, переменную силу звука; я все это приму на учет». Все были озадачены: такого еще не бывало; но повиновались, и Моттль остался доволеи. Всех похвалил, наговорил комплиментов Направнику, сказал, что такой Изольды как Черкасская, в Мюнхене у него нет, отметил точную и дружную игру всех оркестровых групп и отдельных музыкантов, а затем деловито, не и добродушие пояснил, что у него есть свои затеи, а быть может и причуды, что вступление пойдет чуть ли не вдвое медленнее, чем обычно, что оркестр в конце будет греметь еще громче, но чте — «у вашей Изольды хватит голоса его покрыть, и, gn&dige Frau, надо его покрыть», чте все остальное почти не касается певцов, тогда как оркестру следует знать, что там‑то и там‑то будут такие‑то перемены. Речь заняла разве что двадцать минут. Закончив ее, он обратился к флейтисту, в третьем акте играющему sole на коротенькой флейте, именуемой английским рожком, и сказал ему, чте прекрасный он солист, играл безупречно, но чте пусть он его, старика, простит, если дирижерскую палочку свою он и во время его игры, вопреки обычаю, не положит на пульт, а будет продолжать ею махать, как эте делает, по давнишней привычке, у себя, в Мюнхене. Разошлись после всего этого музыканты не без недоуменья, и, конечно, в напряженном ожидании.