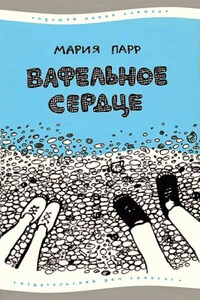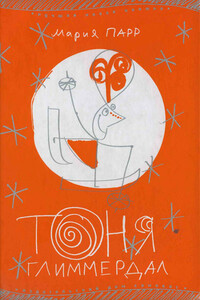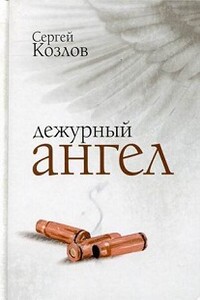— У меня замерз зад.
— Лучше помолчи, Томас, — ответила Бет не слишком строго.
— До сих пор я представлял себе наш дом совсем другим, — сказал Зван. — Я думал: это белый дом, который легко найти, потому что остальные дома темные. На самом деле все всегда не так, как представляешь себе. И говоришь всегда не то, что думаешь. Говоришь всегда что-то другое.
Зван посмотрел на меня мечтательно.
— Никто никогда не знает, о чем ты думаешь, — сказал он.
— И о чем ты сейчас думаешь? — спросил я.
— Когда я говорю, я вообще не думаю.
— А девочки думают иначе, Бет? — спросил я.
— Надеюсь, никто не думает того, что думаю я, — сказала Бет.
— Почему?
— От того, что я думаю, веселее не становится.
— Расскажи-ка.
— Нет, — сказала она, — Зван прав, говоришь всегда не то, что думаешь.
Мы еще довольно долго сидели у двери дома.
Папа мне когда-то рассказывал, что в одном из фильмов Толстый и Тонкий[23] опьянели, выпив холодного чая, потому что думали, что это алкоголь.
В тот вечер мы все трое опьянели.
Но не от алкоголя или холодного чая, а от пустого дома. А дом был пустым только потому, что тетя Йос не лежала на своем диване за закрытыми раздвижными дверями.
Мы зажгли самые уютные лампы.
Зван принес из своей комнаты патефон. Бет надела его черный пиджак, поставила пластинку, и в комнате зазвучала тяжелая, но одновременно смешная музыка.
— Елки-палки, — сказал я, — это же классическая музыка, да?
— «Весна священная» Стравинского, — сказал Зван.
Бет принялась размахивать карандашом, она запрокидывала голову, время от времени трясла ею, так что у нее развевались волосы.
Я понял: она изображает дирижера.
Зван вытянул вперед левую руку, согнул правую и стал изящно водить ею над левой. Делал вид, будто играет на скрипке.
Я был жутко взбудоражен; я поднес ко рту два кулака, надул щеки, прищурился, стал двигать кулаками вверх-вниз и вправо-влево — отличный трубач из меня получился.
Вдруг пластинка зашипела — и музыка смолкла.
Бет перевернула пластинку.
Зван опять заиграл на скрипке, а я изо всех сил принялся дуть в свою трубу.
Бет снова взялась за дирижерскую палочку. Я все время смотрел на нее. Она мне так нравилась в этом пиджаке, что у меня дрожали колени.
Музыка подстегивала нас. Это были такие звуки, под которые могли бы танцевать великаны в темном лесу.
Мы со Званом топали по комнате. Он не переставал играть на скрипке, а я — на трубе.
Бет с трудом сдерживала смех. Она наклонялась к самому полу, топала как бык и при этом продолжала дирижировать. Мы топали за ней следом. Мне казалось, что я сейчас сойду с ума от счастья.
Когда пластинка снова доиграла до конца, мы плюхнулись на пол у камина.
Мы пыхтели и смеялись.
— Я бы хотела, — сказала Бет, — всю жизнь только слушать музыку.
— Боюсь, — сказал Зван, — что у соседей раскокались все лампочки.
— Сударь, — сказала Бет, — какое вам до них дело!
Зван встал и вышел из комнаты, я остался наедине с Бет.
Я сделал вид, будто сморкаюсь в пальцы.
Бет просмотрела на меня, покачала головой, а потом громко расхохоталась; я знал, что она считает меня чудаковатым, и был счастлив, что она надо мной смеется.
— Я на самом деле время от времени в кого-нибудь втюриваюсь, — сказал я. — Не часто, а так, время от времени.
— Тебе всего десять лет, — сказала Бет.
— Да, так говорят.
— Ты десятилетний кроха.
— А ты тринадцатилетняя кроха.
— Ты правда влюблен в меня по уши?
— Не-а, — сказал я.
Бет тихонько запела песенку, я не понимал ни слова.
— Что ты поешь? — спросил я.
Она посмотрела на меня, но мне показалось, что она меня не видит.
— Это грустная песня, — сказала она, допев, — юноша печалится из-за того, что его девушка уплыла с другим на остров в Тихом океане.
— А-а, — сказал я.
Тут вошел Зван с пластинкой в конверте. Он показал ее Бет и спросил:
— Можно?
Бет кивнула.
Зван вынул пластинку из конверта и положил ее на вращающийся диск; через полминуты в комнате зазвучал «Sonny Boy».
Мы слушали, глядя в пол.
Зван поставил пластинку во второй раз, потом в третий. Щеки у Бет по-прежнему оставались розовыми.
Когда «Sonny Boy» заиграл в третий раз, Зван поднялся, стал около патефона, раскинул руки и начал так шевелить губами, будто это он поет. К сожалению, он совсем не был похож на негра.