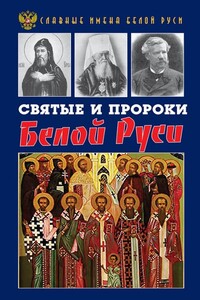Было, наверное, часа два дня, когда ко мне пришла радость жить. Снизошла на меня. Вначале была лодка, я сел за весла, и женщина, хозяйка лодки, стояла в корме, была добра ко мне, хотя и строга, то есть не строга, а серьезна, ибо жизнь ее вся — серьезна; у нее нет ни времени, ни навыка для созерцательного благодушия; ее время — для полезного действия. Вынужденное бездействие — покуда я греб, а она стояла в корме — все равно не давало ей права на безмятежность. Женщина переживала за меня: я не успеваю к дневному автобусу, до вечернего еще полдня; потерянные полдня представлялись ей слишком большим капиталом; она прикидывала, как можно мне их не потерять: «Берегом иди, там тропинка есть, а потом прогоном. На дорогу выйдешь, машины ходют...»
Мне нравилось грести, недавно прошел дождь, небо омылось; мне не нужен был автобус, чего не могла понять хозяйка лодки. Главное мое дело в этой жизни — именно жить независимо от расписания автобусов.
Я пошел по тропе, по мокрой траве, краем овсяного поля; радость жить нарастала во мне, ноги крепко, до удивления крепко держали меня и несли — тропою, прогоном. Вынесли на асфальтовое шоссе; я хаживал по нему до асфальта, до автобуса — по проселку. Перешел на ту сторону, погрузился в беломошный бор. Вначале грибы не попадались, — и вдруг попались, белые, лучшие грибы. Я возблагодарил того, кто посылает грибы, за эту милость. Чувство горячей благодарности переполняло меня, именно горячей, именно благодарности. Я целовал каждый гриб в маковку, хотя в корешке его, да и в шляпке, могли быть черви.
Красота, совершенство гриба внушали мне полную радость, страх как-то обмануться в ней. Радость длилась, покуда гриб рос, но пропадала с первым прикосновением к нему. Она требовала себе продолжения, но не получала. Гриб, упрятанный в полиэтиленовый пакет, переставал быть одушевленным существом (красота имеет душу); новый гриб не попадался, не находился. Но сила в ногах, свежесть в душе не оставляли меня.
Набрав грибов ровно столько, сколько мне хотелось набрать, я вышел на шоссейку. Проносились машины, голосовать мне как-то было неловко. На грунтовой дороге, вот на этой же самой, неголосование показалось бы странным. Теперь тут ходил автобус — сообразуйся с его расписанием и дуй, не болтайся под ногами у быстроездов. Я бойко шел по новой дороге, навстречу попадались огромные машины, груженные песком. Было свежо, прохладно после дождя, голубело небо, сияло солнце, середина августа дышала осенью, блестела вдалеке река. Вся местность стала иная в сравнении с той, какую я знал в прошедшие годы.
Автобус пришел почти пустой, и это было особенно славно: так славно ездить в полупустых автобусах, поездах, летать в самолетах — тогда пассажиры, не притиснутые принудительно друг к другу, обретают в себе людей, становятся интересны друг другу. Нельзя разглядывать соседа, прижатого к твоему боку. Но можно исподтишка присматриваться к сидящим поодаль от тебя, едущим вместе с тобою; они интересны тебе.
Ходил в парк, кормил белку орехами. Малость стыдновато: такой большой мужик занимается тем, что мило детям. Но белка сбежала по стволу ясеня ко мне на ладонь, взяла орешек, продвинулась по моей руке, как по ветке, и стала орешек грызть. У нее пятипалые лапки, приспособленные для того, чтобы держать орех, круглый орех. Белка забралась мне на плечо, я ходил вместе с ней, она не боялась меня. Но когда я попытался погладить ее, она метнулась прочь; тельце у нее сильное, стремительное, шерстка скользкая.
———
Умер Вася Шукшин, Василий Макарович. Закон отбора действует. По этому закону тот, кто выходит из ряду вон, выбывает. Ряд подравнивается.
Вася Шукшин высовывался из ряду на голову, хотя был среднего роста. Он мог сыграть Стеньку Разина, и его Стеньку боялись так же, как и живого Стеньку, те, для кого был Стенька опасен. Вася был Стенькой Разиным — в искусстве. В искусствах. Он обрек себя на казнь и ничего не сделал, чтобы избавить себя от казни или хотя бы отсрочить казнь. Он ее торопил. Он репетировал свою казнь, сыграл ее наконец, заставил поплакать по себе своих близких — и многих, многих просто русских людей. Он сам был просто русский. Не такой русский, как Вася Белов, — сибирский. Но — русский. И ему хотелось стать всецело русским — и добросердечным хитрованом вологодским мужичком, и чалдоном, и казаком-вором Стенькой.