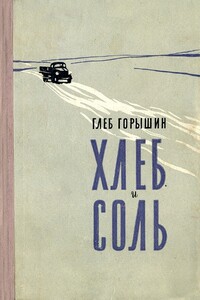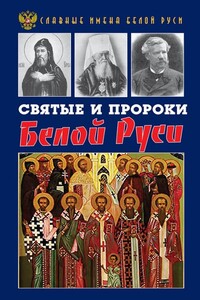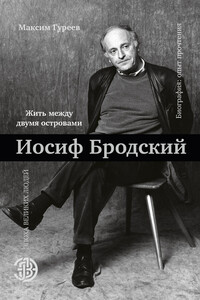«Солнце садится. Солнечная дорожка на море. Под солнцем осиянная горушка. Солнцу не достичь лона вод. На расстоянии получаса до горизонта оно затучивается, зашторивается. И гаснет, гаснет дорожка. И вот уж только пятно на небе, проталина в тучах и столп свечения на воде. И что-то недужное есть в затученном солнце, и у́же, у́же дорога; теперь это отсвет, блик; солнце обретает черты человеческого лица, с усами, бровями, морщинами. И вот уже слабый свет в окошке над морем, дорожка погасает, столп истончается, меркнет. Солнце садится в тучи. Завтра будет пасмурный день. Оконце растягивается вдоль горизонта, вот остался один мазок, пятно на сине-лилово-туманной завесе. Тучи недвижны, море чуть катит валы.
Прощайте, солнце и море! Вы были милостивы ко мне в эту осень...
От солнца остался один лепесток, порозовел верхний край тучевой завеси. Установилось время коротких сумерек...»
А что было раньше, ну, скажем, лет десять назад? Нельзя ли что-нибудь выбрать, подготовить для публикации? Увы, это трудно, да больно я самокритичен. Стопы тетрадей, утренних и вечерних, исполнены пафоса самобичевания. В больших количествах это скучно, непродуктивно. Отыщешь пейзажную зарисовку — и отдыхаешь...
«25 марта 1984 года. Синие тени под соснами на снегу. Зимою случилось наводнение, и Финский залив вышел из берегов. А мы и не видели и не знали. Море вывалило на берег оковы льдов, освободилось. Оно воздвигло на льду ледяные хребты. Мы с дочкой лазали по хребтам — вверх, вниз. Я стал вдруг счастливый, просто потому, что лазал по льдам вверх и вниз. От этого стали счастливыми мои ноги и горло, и щеки — их обжигало ветром, солнцем. И я запел: «Идем мы смело вперед, вперед! Нам ветер дует в открытый рот!»
Я написал два хороших рассказа, спасибо мне. Многие годы я укорял себя в праздности, в растрачивании жизни по пустякам, в зарывании таланта в землю. И это все поделом. Но сегодня синие тени на снегу под соснами, ледовый хребет у залива, и я написал два хороших рассказа. Часов шесть кряду спал крепким сном. И я помирился с самим собой — на короткое время. Не вполне помирился, но все же... Синие тени на мартовском снегу.
Написал два рассказа, а снова взяться писать не могу. Не знаю, как взяться, за что, — и страшно, что не хватит времени. Вот это появилось в мои года: страшно мало осталось времени. Но куда оно делось? Совсем недавно его было так много, что оно мешало, в нем было просторно, опасно, как в большом пустом доме. А теперь стало тесно.
Склоняюсь к Антону Павловичу Чехову. Знаю, что он мне нужен именно сейчас. Читаю Чехова попеременно с Буниным... «Перекати-поле» — в этом чеховском рассказе сказано о нашем насущном больном вопросе больше, чем наговорено всей ныне пишущей братией. Чехов не был доктринером, он не воздвиг гору догм, он не был мессией. Он свои мысли о том, что до́лжно и что не до́лжно (главное — что есть), не выносил «во главу угла», — рассыпал, засеял ими всю свою прозу.
Прочел «Старый дом» — тоска чеховская, у Бунина она невозможна. Тоска — умом, не плотью. Бунин если тоскует, то плотью.
Природа: воздух, море, ледовый хребет, песок на проталинах, синие тени на снегу, белая, голубоватая пустота ледяного покрова на море — это тоже Искусство. Оно помогает мне отъединиться от «не я».
Я устал, мне теперь будет не тридцать, не сорок, а пятьдесят. Нет времени что-либо наверстывать. Я шагнул за означенную Моруа «черную черту». Ну что же...
Я запряжен в арбу, затянута супонь на хомуте. Иду в упряжи, тяну арбу. Чего мне не жалко, так это меня самого. Я отношусь к себе без жалости, без снисхождения. Погоняю себя — в хвост и в гриву, в хвост и в гриву.
Видел черного большого дятла, желну. Он не такой нарядный, как меньший его собрат. У него всего-то украшений — красная крапина на маковке. И он какой-то несчастный. Он похож на шахтера, уставшего долбить своим инструментом угольный пласт. В его усердии есть надрыв, надсад. Он нездешний; его принесло каким-то ветром из лесной глухомани в дачный поселок. И клюв его слишком долог для букашек и личинок, живущих в стволе березы. Кажется, он поставлен не на свою работу. И я люблю черного дятла — желну. Он мне ближе, родственнее, чем типовой, обычный дятел, в бархатных красных штанишках.