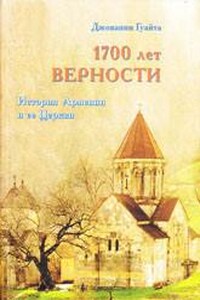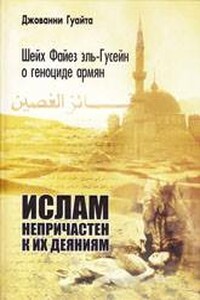Вы получили религиозное образование благодаря близости армянской Церкви и верности обычаям и традициям Ваших предков. Было ли это передачей подлинной веры или скорее приобщением к вере как к национальной культуре, как гарантии принадлежности к армянскому народу?
Я считаю, что это была прежде всего вера, переданная через живой пример жизни, о чем я уже говорил. Однако нельзя отделять одно от другого. Быть армянином — значит чувствовать принадлежать к своему народу и неразрывную связь с верой Церкви, так как армянская культура пропитана христианством, а наша история сформирована христианской верой. Сегодня много говорят об инкультурации: христианская вера должна воплощаться в формах определенной культуры. Я думаю, что это случилось в Армении. Когда обращаются к культуре нашего народа, к его тысячелетней истории, неизбежно говорят и о Церкви, о св. Григории, о св. Месропе Маштоце — создателе алфавита... Мы, возможно, еще вернемся к теме инкультурации, но сейчас я хотел бы сказать, что я не могу себя понять экзистенциально как армянина, отделив себя от христианской веры.
Вы поступили в семинарию достаточно рано, когда были четырнадцатилетним подростком. Чувствовали ли Вы недостаток домашнего тепла?
В начале учебы я страдал из-за того, что находился далеко от семьи; но постепенно семинария стала заменять мне семейный очаг. При входе в нее на портале здания была надпись, которая сразу поразила меня: «Корхе ев медир», что означает «Подумай и войди». В этом возрасте я еще не задумывался всерьез о призвании, но я вошел... Впоследствии, конечно, я много размышлял об этом, но уже будучи погружен в духовную и интеллектуальную атмосферу семинарии.
У Вас не было ясного представления о своем призвании. Что же побудило Вас поступить в семинарию? Возможность получить образование? Желание остаться в лоне армянской культуры?
Я должен признаться, что хотел получить образование. В деревне у меня не было перспектив, так как в школе отсутствовала вторая ступень обучения. Поэтому я начал брать уроки у портного, чтобы помочь отцу увеличить достаточно скромный достаток семьи. Но отец Мовсес (Моисей), наш деревенский священник, предложил мне поступить в семинарию. Он сказал, что только после окончания учебы меня спросят, хочу ли я стать священником. Действительно, желание стать священником не было предварительным условием обучения. Мысль о призвании зрела во мне медленно, в течение шести лет учебы в семинарии, где я прошел вторую ступень обучения, затем изучал богословие, философию и армяноведение. На мое созревание большое влияние оказывали молитва, участие в литургической жизни Церкви, углубленное изучение христианской традиции, библейской литературы и патристики. Духовные ценности, которые вначале я не мог воспринять разумом, проникали в мое существо и усваивались мною изнутри.
Какие предметы Вы любили больше всего? Были ли мыслители или богословы, которые особенно на Вас повлияли?
Мне нравилось догматическое богословие, потому что оно пыталось средствами человеческого языка как можно яснее объяснить христианские истины. Я любил историю Церкви, в которой находил те же истины, но подтвержденные на практике в процессе истории. Я имею в виду не памятные даты и имена, но свидетельства веры.
Особенно волновало меня чтение Отцов Церкви. Помню, как попросил разрешение у преподавателя написать эссе о блж. Августине. Исповедь, Град Божий и другие его сочинения воспринимались мною как призыв. Я написал тогда 90 страниц! Мне также нравились восточные Отцы Церкви, такие, как св. Афанасий, св. Иоанн Златоуст... В их сочинениях христианство предстает не только как умозрительное учение, но как проповедь, как конкретное выражение духовной жизни. Впоследствии, продолжая учебу в университете, я еще больше оценил разницу между представителями схоластического богословия и патристики. Последние руководствовались, прежде всего, нуждами народа Божиего, верующих. Все Отцы Церкви были пастырями, поэтому, когда они, как говорят сегодня, «создавали богословие», они связывали его с действительностью, а не превращали в абстрактную дисциплину, оторванную от жизни.