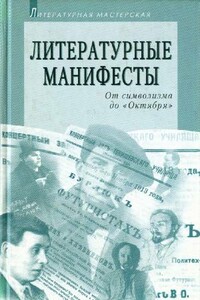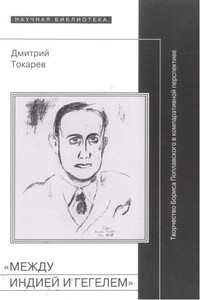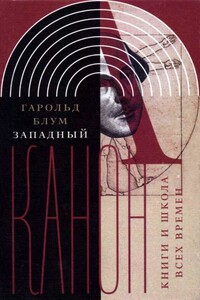О, если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую оду!
Поэт пушкинского времени таких обоснований дать бы не мог по той простой причине, что ему их давать не пришлось бы.
Все это, впрочем, не ново. Повторяю это лишь чтобы определить точнее «незаконченность» Ходасевича, которая связана не с его мастерством, а с его поэтической сущностью. Да, говоря о Ходасевиче как о мастере, именно об его сущности часто забывают. Выводят даже порою, что онтологическое содержание в его стихах отсутствует, что он «мастер, но не поэт»… Как будто оригинальное мастерство может существовать без поэзии, а не порождается ею (иное дело — нынешняя виртуозность, которой можно научиться). Как будто в искусстве форма сама по себе — не содержание.
Какова же та тема, тот эмоционально-сознательный замысел его, которым понадобилась его классическая форма — именно эта, а не какая-либо другая? Ум отнюдь не означает отсутствия лирического, первичного порыва — да без него поэзии и не бывает. У Ходасевича скрытый лиризм звучит в самых обдуманных и обработанных стихах. Мало кто, однако, обратил внимание на те стихи, в которых лиризм Ходасевича прорывается наружу, ничем не сдерживаемый. В них Ходасевич из сурового поэта становится поэтом прелестным и в буквальном смысле слова душевным.
Странник прошел, опираясь на посох –
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах –
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре –
Мне непременно припомнишься ты.
Чтоб не случилось на суше, на море
Или на небе, — мне вспомнишься ты.
Этому-то душевному порыву Ходасевич и не захотел дать власти над собою, над стихом. Легкому дыханию лирики предпочел он другой, «тяжелый дар». –
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.
И нет штукатурного неба,
И солнце в шестнадцать свечей.
На гладкие черные скалы
Стопы опирает — Орфей.
Путь Ходасевича лежал не через «душевность», а через уничтожение, преодоление и преображение. Душа, «светлая Психея», для него — вне подлинного бытия, чтобы приблизиться к нему, она должна стать «духом», родить в себе дух. Различие психологического и онтологического начала редко более заметно, чем в стихах Ходасевича.
Душа сама по себе не способна его пленить и заворожить.
И как мне не любить себя,
Сосуд непрочный, некрасивый,
Но драгоценный и счастливый
Тем, что вмещает он — тебя?
Но в том-то и дело, что «простая душа» даже не понимает, за что ее любит поэт.
И от беды моей не больно ей,
И ей не внятен стон моих страстей.
Она ограничена собою, чужда миру и даже ее обладателю. Правда, в ней спит дух, но он еще не рожден, еще не стал… «Так спит зародыш крутолобый»… Поэт ощущает в себе присутствие этого начала, соединяющего его с жизнью и с миром.
Так, провождая жизни скуку,
Любовно женщина кладет
Свою взволнованную руку
На грузно пухнущий живот.
Но дух должен вылупиться из души, как из яйца, и этот творческий акт Психее одной не под силу,
Простой душе не выносим
Дар тайнослышанья тяжелый –
Психея падает под ним.
Рождение духа — болезненно и мучительно. «Прорываться начал дух, как зуб из-под опухших десен»… Можно ли более ощутимо передать эту боль! Но поэт, в отчаянии твердящий: «перескачи, перешагни, перелети, пере — что хочешь», пробить скорлупу — плоть душевного мира — до конца не властен.
Вон ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крылышкам, ни сердцем подневольным.
Порою кажется ему, что чудо вот-вот совершится:
Друзья, друзья! Быть может, скоро,
И не во сне, а наяву
Я нить пустого разговора
Для всех нежданно оборву.
И повинуясь только звуку
Души, запевшей, как смычок,
Вдруг подниму на воздух руку,
И затрепещет в ней цветок.
И я увижу, я открою
Цветочный мир, цветочный путь.
О, если бы и вы со мною
Могли туда перешагнуть.
Но на самом деле чем дальше — тем глубже погружается дух в самую плоть «скорлупы» — мира со всей его прозой (о, как не случайны прозаизмы Ходасевича!). И не «уродики, уродища, уроды» характернее всего для этого погружения в «Европейскую ночь» — во всечеловеческую ночь — а страстные, хоть и сдержанные строки: