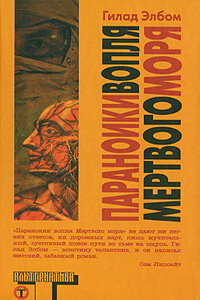Мысли ранят, как острые клинки. Даже больней. Смерть не страшна. Смерть уже была.
Окровавленное, истерзанное тело колеблется в такт движению. Его везут не для того, чтобы швырнуть затем под колеса. Расправа не будет ни скорой, ни легкой…
Вот если б не думать! Совсем не думать! Было бы спокойнее… А если б еще не было боли! Так не бывает — ни мыслей, ни боли. Это невозможно, фантазия, все в мире связано… Трясется по дороге арба. Временное, шаткое, ненадежное убежище!..
Где теперь мать? Сколько раз я мечтал увидеть ее… Краешком глаза… Надеялся… Где дядя? О чем это я?! Ведь дядя умер! Как это он говорил?.. Нет, не вспомнить… Эти слова были у него про запас, и он извлекал их в нужный момент. А лицо у него было всегда налито кровью. Он умер от кровоизлияния. А теперь живет снова. В мыслях, воспоминаниях… Так как же он все-таки говорил? А? «Восстанут, и будет праздник…» Праздник? Восстанут — это понятно. Так оно и есть: нас начали убивать, и мы восстали. Но почему праздник? Дядя еще добавлял: «…в сердцах»…
Зафир всматривался в багровое лицо дяди. Прислушивался к обрывкам когда-то сказанных фраз. Качался, послушный покачиваниям арбы. Пританцовывая, дергался на ухабах. А в мыслях был дядя и его слова: «будет праздник…» «Когда будет? Мы уже восстали, сражаемся, гибнем. Когда же будет праздник?»
Арба въехала в иной мир — мир трупов, отрубленных рук, ног, обгоревших туловищ, костей… мир убитых, но не побежденных! И среди них он, Зафир. Его труп волочат по земле, а он стучит ногами. Удивительно, труп и стучит ногами. Здесь нет удивительного, здесь иной мир. Глаза прикрыты. И за это спасибо. Может быть, посыпаны пеплом? Нет, на такую благость рассчитывать не приходится.
А самое страшное в другом: его везут к матери показать раны, чтобы она увидела… И она увидит, услышит и повторит каждый отмученный им стон.
А почувствовала она, когда его арестовали, оставили один на один с долговязым — подбородок треугольником, прыщавый лоб, в глазах злость, — изувеченного затолкали в темный кузов арбы?
Лесная чаща с одной стороны, и с другой — уклон. Край земли. Ощутив близость моря, заржали лошади. Чуть посветлело. Наползал туман. И вдруг этот луч прожектора! Узкая кинжальная полоса, нацеленная в арбу. Как дуло вражеской винтовки. Высоко в небе тучи. Или это слеза на ресницах? В глазах промелькнуло лицо матери… А вдоль дороги плыли дома, деревья, посевы, поодаль — заросли дикой ююбы…
Забывшись, Зафир хотел протянуть руку к зеленому лугу, но лишь заскрежетал зубами: руки были закручены за спину.
Второй луч вырвал поселок покрупнее. Дальше поблескивало море.
Снова стало темно. Головы не повернуть. Так ведь она привязана к приставленной сзади доске, чтобы не падала на бок. А это что, совсем рядом, большое, черное? А, старый знакомый! Как напугал! Все качается… в такт подрагиваниям арбы… Вот он, запах мертвечины… Глаза открыты. Какой назойливый! Так и лезет, не оттолкнуть! Толкаешь его, а он напирает. Словно песок на склоне бархана. Не кончить ли все одним махом? Зачем такая жизнь?.. Самоубийство?! Нет! Тысячу раз, нет! Нужно ждать! Терпеливо ждать… Что-нибудь произойдет, изменится. Совсем неожиданно. И «…будет праздник». Хорошо бы отвалилось колесо или лошадь сломала ногу. Арба остановится. А что дальше?! Голова, отделенная от туловища, покатится по земле… и человек никогда не узнает о своей смерти. Просто и быстро. Только чтоб лезвие было отточено… И голова покатится по выгоревшей траве.
Арба то скрывалась в сгустках тумана, будто ее и не было вовсе, то отчетливо выступала под лучами прожекторов. Сзади нарастал стук колес, скрипы, бормотание, чьи-то возгласы. Ночь выплевывала на дорогу одну арбу за другой. Цугом двигались они к глубокому вади[12], словно огромные муравьи спешили к площадке у рощи перед высокой скалой.
«Чего он лезет?! Что ему надо?! Со штыком!»
Солдат, не торопясь, перерезал веревки.
— Ловко тебя везу? Куда, спрашиваешь? Увидишь. Собственными глазами. Вряд ли тебе понравится. Ты что, недоволен? А?
Освобожденная от пут голова качнулась и свесилась. Перед глазами поплыла земля. Болтались концы веревки, торчал штык.