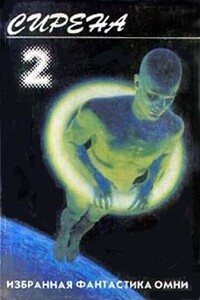Здравствуй, Татьяна...
Сколько времени я провёл так, в горестном созерцании души любимого человека, не помню. Впал в транс. Вывело меня из сомнамбулического состояния шипение открывающихся дверей лифта. Кто-то поднялся в хранилище вслед за мной.
Всполошённым зайцем метнулся я в глубь зала, пытаясь спрятаться за стеллажами и в то же время понимая, что их ровные ряды - убежище ненадёжное. Но, добежав до стены, я увидел балконную дверь. Не раздумывая, открыл её, выскользнул на балкон и, притворив за собой дверь, оставил небольшую щель. Прижав контейнер к сердцу, совсем как Летописец мёртвое тельце жужиньи, я прильнул ухом к щели.
- Я тебе говорю, он только что был здесь! - бубнил чей-то голос. Вот и тележка с капсулами стоит.
"Значит не контейнер, как я его окрестил, а капсула, - совсем некстати рефлекторно вывел я аналитическое заключение. - Ну правильно, капсулирование сознания более точное определение..."
- А почему он тогда не разложил капсулы? - возражал другой голос.
- Да потому, что не наш он. Не наш, я тебе говорю! Я потом подумал откуда у нашего борода? Ищи!
Некоторое время в зале слышались только шаги.
- Да нет его здесь, - наконец сказал второй голос.
- Сам вижу, - буркнул первый. - А ты на балконе смотрел?
Сердце моё упало.
- Нет.
- Проверь!
"Что делать? Что делать?! - лихорадочно пульсировало в голове. - Это конец. Счастливого случая, как вчера, не предвидится..." Машинально глянув на зажатую в руке капсулу, я увидел карточку Татьяны. Вот, что делать! - и со всего размаху швырнул карточку с балкона.
Я ещё успел увидеть, как она, мельтеша в воздухе, подобно бабочке, пролетела мимо освещённого окна нижнего этажа, и тут же всё погрузилось в темень. Откуда-то налетел ледяной шквальный ветер, сыпанул в лицо моросью и сорвал с головы докторскую шапочку. Инстинктивно я схватился за перила, холодные и ржавые, и понял, что стою на последнем этаже заброшенной стройки в центре города.
Боясь, что вместе с карточкой и шапочкой сгинуло всё, что принадлежало Центру по делам беженцев, я медленно перевёл взгляд себе на грудь. В руке, мёртвой хваткой прижатой к сердцу, билась, пульсировала, светилась и жила обнажённая душа самого дорогого мне человека. Там, внизу подо мной, раскинулся город, полностью обесточенный, укрытый мраком, а потому мёртвый, наполненный лишь оболочками людей. Ничего живого, включая и меня, не было в городе, кроме этой лучащейся тёплым светом души.
Я глянул с балкона вниз и ничего не увидел. Мрак. Беспредельный и беспросветный мрак бездны, зовущей к себе. И тогда я понял, что ничего в этом мире не сделал. Попытался написать одну светлую повесть и ту не довёл до конца, потому что не знал, не мог даже представить, что будет делать Летописец на вершине холма, какими глазами будет смотреть на разорённую мною страну. Такими же, как я на свою?
Судорожно прижимая к сердцу всё, что у меня осталось в жизни, я наклонился над перилами. Бездна манила.
Летописец ошибся, предполагая, что никогда больше не увидит Государыню. Но это была не его ошибка - последняя мысль Кудесника гаснущим огоньком трепыхнулась в Волшебной Стране и исчезла навсегда.
Государыня сидела на своём троне на вершине холма. Та, перед кем Летописец преклонялся, кого обожал, и та, которая наводила ужас, пред которой он унижался. Но пред ним сидела уже не грозная и прекрасная Государыня, а усталая, растерянная женщина, чья разноликость теперь не казалась диссонансом. Впервые Летописец без страха или восхищения посмотрел ей в глаза, и впервые она, а не он, отвела взгляд. Поняла Государыня, что стала никому не нужна в Волшебной Стане, а потому, так ничего и не сказав, медленно растаяла в воздухе. И ничто не откликнулось на её исчезновение в душе Летописца.
Боги приходят и уходят, а люди остаются. Только так, а не наоборот.
Летописец повернулся и окинул взглядом Волшебную Страну, которую он когда-то считал родной, но оказавшуюся надуманной страной Кудесника. Он не испытывал тоски по былому, было лишь немного грустно, словно закончилось детство. Летописец знал, что именно это чувство он испытает, взобравшись на холм. Для этого он и шёл на вершину, чтобы больше никогда сюда не подниматься. Всё вокруг было чужим, и его прошлое тоже. С чем он и прощался без горести и уныния. Впереди его ждала с в о я жизнь и с в о я работа. Больше он никогда не будет писать по чужой указке. Он будет писать с в о ё .