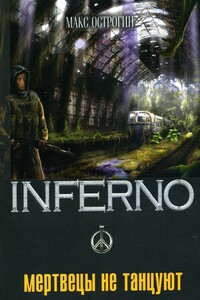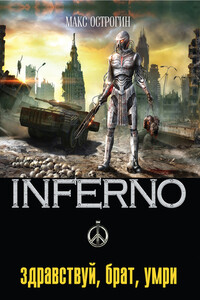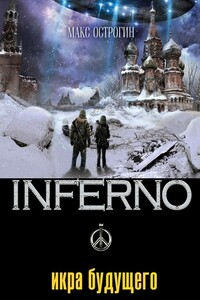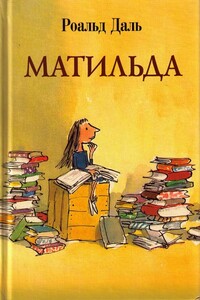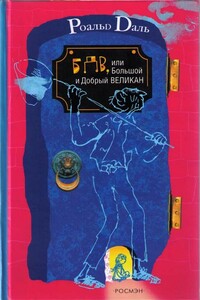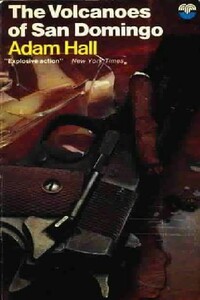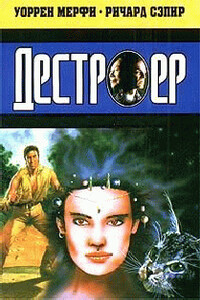Теперь его со всех сторон окружали улыбки — они покрывали буквально все пространство стен его скромной обители. Настоящее празднество, буйный карнавал улыбок.
И лишь сам Добби по-прежнему не улыбался им в ответ, поскольку все так же считал, что делать этого не следует. Нехорошо это.
Но вот как-то раз к нему «в гости» все же напросилась его квартирная хозяйка. Едва увидев, во что превратились стены ее благопристойной квартиры, дородная матрона прямо-таки заполыхала густым румянцем благородного негодования. Это была весьма массивная особа, намного более тяжеловесная, чем тщедушный Добби, раза в два старше его, рано овдовевшая, основательно потрепавшая себе нервы и от этого, как ему казалось, любившая изводить также и других людей. Немудрено, что Добби ее где-то даже побаивался и давно бы уже сменил квартиру, однако хозяйка брала с него весьма умеренную арендную плату, сама производила уборку в квартире, и где-то вскоре после того, как он поселился в ней, даже попыталась было пару раз изобразить на своем лице улыбку. Правда, вскоре у нее окончательно пропало желание повторять подобные потуги, и ее поведение ни в чем не стало отличаться от того, как вели себя все окружавшие Добби люди: она старалась как можно скорее прошмыгнуть мимо него и по возможности не встречаться с ним взглядом.
— Знаете, Добби, — проговорила она во время того визита в его каморку, — я не хочу, чтобы вы портили мои обои своими бумажками. — Да-да, именно так и сказала: «бумажками», и Добби даже покоробило, как она отозвалась о его улыбках.
Впрочем, выхода у него не было, так что пришлось исполнить волю квартирной хозяйки, хотя он и постарался снять улыбки как можно аккуратнее, чтобы, не дай Бог, не повредить, не порвать хотя бы одну. Разумеется, избежать этого удалось далеко не всегда, но те, которые все же уцелели, он снова старательно разложил по коробкам. На душе у него кошки скребли, пока он ползал вдоль стен и отклеивал свои улыбки; настроение совсем испортилось и после того случая он уж наверняка сменил бы жилье, но… но другой квартиры у него на примете не было. Эта же, какая-никакая, все-таки являлась его домом; у всех нормальных людей был свой дом и ему тоже не хотелось даже на время оставаться без крыши над головой. Так уж ли намного он был хуже других?
И все же даже после того, как стены квартиры лишились столь милых его сердцу улыбок, Добби продолжал машинально останавливаться у мусорных ящиков, выискивая взглядами выброшенные журналы с яркими, красочными иллюстрациями, плакаты и тому подобные вещи. Идя с работы, он неспешно заглядывал чуть ли не в каждую урну и потому лишь запоздно добирался до своего скромного жилья в старом, основательно обветшалом доме, в котором лишь с большим трудом можно было подметить следы некогда присущего ему викторианского стиля.
И вот однажды, по привычке неспешно возвращаясь домой, Добби выхватил взглядом человеческий манекен, выброшенный на помойку позади универмага на Лайтхауз Авеню.
Первым делом он обратил внимание на улыбку. Пенопластовая кукла выглядывала из-под крышки просторного и глубокого мусорного контейнера и призывно улыбалась ему. Добби подошел ближе, остановился и стал пристально всматриваться в ее лицо, тогда как она также не отрывала от него своего взгляда и своей улыбки, не пытаясь ни опустить глаза, ни отвернуться, ни юркнуть куда-то в сторону по примеру остальных людей.
— Привет, — негромко проговорил Добби, решив немного позабавиться с новой знакомой.
К собственному недоумению он поймал себя на мысли о том, что также улыбается ей, и хотя ему было прекрасно известно, что настоящая улыбка оставалась для него уделом бесплодных мечтаний, она и после этого не отвернулась, не спряталась и не удалилась прочь. Действительно, она по-прежнему улыбалась ему — улыбалась, улыбалась, улыбалась. Перед ним была большая и по-настоящему радовавшаяся его обществу кукла — вот что это было такое.
Для него же не менее важным было то, что и он в ее присутствии мог улыбаться, причем теперь у него не появлялось ощущения, будто в этом есть что-то порочное, и что делать этого не следует.