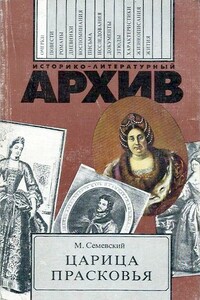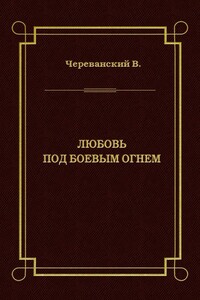Как только Анастасия Романовна вступала сюда, в этот тихий приют, ей представлялись в розовом свете картины прошлого и иногда до того явственно, что, казалось, сейчас выглянет из-за кустарника этот дерзкий Лукьяшка, опустится на колени и начнёт шептать безумные речи. Как поступить в таком случае? Призвать людей? Сохрани Господи! Это означало, что она сама отправила бы своего любимого друга в пыточную избу, на верную смерть. От одной такой мысли Анастасию Романовну начинала бить лихорадочная дрожь.
Есть же, однако, средства от сатанинских наваждений?! Проще всего забросить беседку и не вступать в неё ногой. Но разве мысли можно забросить? Можно, конечно, приходить сюда только с детьми. Но их няни по молодости болтливы и непременно разнесут по всему дворцу, что-де царица здесь задумывается и заслушивается птичек певчих до того, что не замечает своих слёз. Остаётся только читать прилежно, чтобы и дети, и няни слышали кое-что подходящее из «Домостроя» Сильвестра.
Обычно царицын шалаш оглашался звонким детским смехом и шумливой вознёй детей в послеполуденные часы, когда в саду провевало тёплыми и душистыми струйками. На этот раз царица пригрозила детям, чтобы они не шумели, а няням велено быть внимательными и приглядывать за детьми. Правда, им было ещё рано вникать в заповеди «Домостроя», но в их распоряжении здесь находились и целые короба с игрушками.
Вдруг деревья и кусты зашумели, точно желали обратить внимание на надвинувшуюся грозовую тучу. Няням было тотчас же приказано увести детей, а маме сказать, чтобы она не беспокоилась, гроза сейчас минует, да она и вовсе не страшна.
Оставшись одна, царица вновь принялась решать загадку, когда же она была счастливее — прежде или теперь? Вспомнилась ей такая же гроза, застигшая её в конце сада князя Сицкого! Тогда, откуда ни возьмись, появился Лукьяш и, несмотря на её сопротивление, поднял её на руки, понёс и уже бережно опустил на крылечке под навесом. Кажется, он осмотрелся вокруг и поцеловал её. Ну, да ведь он озорник.
Порывистый ветер Бог знает, что выделывал теперь; даже толстые липы трещали и ломились, а кустарники прилегали плашмя к земле. Царица пожалела, что она не ушла вместе с детьми. Сердце её то билось часто-часто, то замирало точно в ожидании близкой опасности. Оно чуяло, что за этим кустом сирени скрывается человек. И действительно, порыв ветра раздвинул густую листву, и царица увидела Лукьяшу. Ему оставалось только повиниться перед ней.
— Прости, царица, — произнёс он, вступив в шалаш, — не совладал я со своим сердцем. Хотелось хоть уголком глаза взглянуть на тебя, прости.
И он опустился на колени.
— Оставь, уйди, увидят! — настойчиво просила Анастасия Романовна, отстраняя свои колени от его безумных поцелуев. — Тебе — дыба, а мне монастырь! Христом Богом прошу тебя вспомнить, что я царица, а не Настя Захарьина. Что мне сделать, чтобы я была ненавистна тебе, научи! Господи, вразуми его и... уйди, а то маму позову.
— Зови кого хочешь, пусть меня ведут на дыбу, на угли; пусть выпустят из меня всю кровь по капле, переломают руки, ноги...
Анастасии Романовне удалось, однако, освободиться от безумца; она поспешно вышла из убежища и, несмотря на ливень, побежала к дому. Навстречу ей с плащом в руках уже торопилась мама. Нужно было торопиться, молнии срывались и падали и вблизи, и вдали. Разумеется, мама понимала, что её дитя взволнованная жестокой погодой. В шалаше остались накидка царицы и, главное, её рукоделье. За ним-то и побежала мама.
И о ужас!
Она заметила, что от шалаша пробирался сторонкой Семиткин. В беседке было пусто. Он, очевидно, захватил и накидку царицы, и её рукоделье. Для чего? Мама погналась за ним и строго потребовала отдать ей царицыны вещи. Он вздумал было отнекиваться, но костлявые руки старушки были неподатливы. Семиткину пришлось уступить, иначе он познакомился бы с занесённым уже костылём царициной благодетельницы.
Мама подробно рассказала дитятке-царице о своей встрече с Семиткиным, который пробрался к шалашу, несомненно, с намерением что-то подстроить. Какой глупый! Что он мог там видеть — как играли деточки в ладошки! Увы, Анастасия Романовна, жалея Лукьяша, предпочла скрыть от мамы его дерзкое появление и преступные поцелуи, хотя бы и коленей. Но то, что высмотрел Семиткин, должно было повести к большому несчастью.