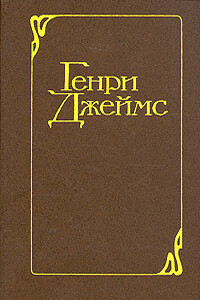Женский портрет - страница 298
Но при всем том, история Елены очень увлекательна, и Лизы тоже, и «Новь» тоже увлекательная история. Я не так давно перечитал романы и рассказы Тургенева и вновь поразился тому, как поэзия сочетается у него с правдой жизни. Говоря о Тургеневе, нельзя забывать, что наблюдатель и поэт слиты в нем нераздельно. Поэтическое чувство, чрезвычайно своеобразное и сильное, не покидало его никогда. Им навеяны рассказы, написанные Тургеневым в последние годы жизни, после романа «Новь», – рассказы, где столько фантастического и потустороннего. Им проникнуты многие его раздумья, видения, сентенции, вошедшие в «Seni-lia». В мои намерения не входит разбирать здесь сочинения Тургенева – все, что мог и хотел, я сказал о них несколько лет назад, однако позволю себе заметить, что, перечитывая эти сочинения, я, как и прежде, нашел в них два некогда упомянутых мною качества: богатство содержания и всепроникающую грусть. Они словно сама жизнь, а не искусная ее обработка, не réchauffé[243] жизни. Однажды, помнится, говоря об Омэ – провинциальном аптекаре из «Мадам Бовари», педанте, щеголявшем «просвещенными мнениями», – Тургенев заметил: исключительная сила образа этого маленького нормандца в том, что он одновременно и индивидуальность, со всеми ее особенностями, и тип. В этом же сочетании кроется исключительная сила тургеневского изображения характеров: его герои неповторимо воплощают в себе единичное, но в то же время столь же отчетливо и общее. Высказывания Тургенева, подобные замечанию об Омэ, заставляют меня задуматься над тем, почему он так высоко ставил Диккенса, у которого это как раз было слабым местом. Если Диккенсу не суждено остаться в веках, то именно потому, что герои его воплощают в себе единичное, но не общее, индивидуальное, но не типичное; потому, что мы не чувствуем их неразрывной связи с остальным человечеством, не ощущаем принадлежности части к тому целому, из которого романист и драматург ваяют свои фигуры. Я все собирался, но так и не удосужился еще раз навести Тургенева на разговор о Диккенсе, расспросить, что он в нем находит. Его восхищение, полагаю, было вызвано тем, что Диккенс – а на это он был мастер – развлекал Ивана Сергеича. Тут пленяла сама сложность изваяния. Я уже упоминал о Флобере и возвращаюсь к разговору о нем, чтобы добавить, что в дружбе, которая связывала его и Тургенева, было что-то бесконечно трогательное. К чести Флобера надо сказать, что он очень ценил Ивана Тургенева. Между ними существовало немало общего. Оба принадлежали к породе крупных, массивных людей, хотя Тургенев превосходил Флобера ростом; оба отличались предельной правдивостью и искренностью; оба были по натуре склонны к пессимизму. Они питали нежную привязанность друг к другу, но, думается, я не погрешу против истины и такта, если скажу, что со стороны Тургенева к этой привязанности примешивалась еще и доля участия. Что-то во Флобере невольно взывало к подобному чувству. За ним, в целом, значилось больше неудач, нежели удач; огромный запас знаний, огромное усердие, которое он употреблял на шлифовку своих произведений, не приводили к должным результатам. Природа наградила его талантом, но обделила живостью ума, наградила воображением, но обделила фантазией. Его усилия были героическими, но он доводил свои творения до полного блеска, казалось он покрывал их металлическими пластинами, и они, исключая «Мадам Бовари» – безусловно шедевра, – вместо того, чтобы плыть на всех парусах, шли на дно. Им владела страсть к совершенству формы, к некой исключительной многозначности стиля. Он жаждал создавать совершенные фразы, в совершенстве соединенные, плотно пригнанные друг к другу, как звенья кольчуги. На жизнь Флобер глядел только с точки зрения художника, а к своей работе относился с серьезностью, никогда его не покидавшей. Написать безупречную страницу – а в его представлении безупречная страница означало нечто почти недостижимое – только для этого и стоит жить! Он пробовал вновь и вновь, и уже приближался к цели, и ему даже не раз удавалось коснуться ее, потому что «Мадам Бовари» останется в веках. Но его гению не хватало сердечного жара. Флобер был холоден, хотя отдал бы все на свете за способность гореть! В его романах нет ничего похожего на страсть Елены к Инсарову, на чистоту Лизы, на отчаяние стариков Базаровых, на скрытую рану Татьяны, а между тем он старался – пуская в ход весь свой богатейший словарь – затронуть струны жалости. Но что-то в его душе «давало осечку», не исторгало нужного звука. Иных чувств у него было сверх меры, других – недостаточно. Так или иначе, этот изъян в устройстве, позволю себе сказать, душевного инструмента, вызывал у тех, кто знал Флобера, особую симпатию к нему. Да, он был могуч и ограничен, но, если угодно, есть что-то человеческое, вернее даже, что-то величественное в сильной натуре, не сумевшей выразить себя до конца. После первого года знакомства с Тургеневым, мне уже не доводилось так часто встречаться с ним. В Париже я бывал сравнительно редко, и не всегда заставал там Тургенева. Но я старался не упускать возможности увидеться с ним, и судьба, большей частью, мне в этом благоприятствовала. Два или три раза он приезжал в Лондон, но на досадно короткий срок. Отправляясь поохотиться в Кембриджское графство, он останавливался в Лондоне и на пути туда и на возвратном пути. Ему нравились англичане, хотя я не убежден, что ему нравилась их столица, где он провел мрачную зиму 1870 – 71 г. Я помню кое-какие его впечатления той поры, особенно, рассказ о визите к некоей «епископше», окруженной выводком дочерей, и описания завтраков, которыми его кормили в меблированных комнатах, где он поселился. После 1876 г. я чаще видел его больным. Его терзали приступы подагры, и порою он не находил себе места от боли, но говорил он о своих страданиях пленительно – иного слова я не подберу, – как и обо всем прочем. Привычка наблюдать так укоренилась в нем, что даже в своих мучительных ощущениях он подмечал разного рода любопытные черты, находил для них аналогии и очень тонко анализировал. Несколько раз я посещал его в Буживале, городке, расположенном вверх по Сене, где он выстроил себе очень просторное и красивое, но, к сожалению, темноватое внутри шале, рядом с виллой той семьи, которой посвятил свою жизнь. Это прелестное место; оба дома стоят посредине длинного пологого склона, спускающегося к реке и увенчанного лесистым гребнем. В некотором отдалении слева, высоко над окаймленным лесами горизонтом, тянется романтический виадук Марли. Чудесное имение! Там, в Буживале, я и видел его в последний раз, в ноябре 1882 г. Он уже давно страдал недугом, который проявлялся в странных, нестерпимых болях. Но в мой приезд он чувствовал себя лучше и появилась надежда. Она не оправдалась. Ему снова стало хуже и последующие месяцы были ужасны. Зачем такой прекрасный светлый ум должен был затуманиваться, зачем должен был искусственно быть помрачен! Ему бы до последней минуты хранить свою способность внимать велениям судьбы и участвовать в ее таинствах. Впрочем в тот день, когда я навестил Тургенева, он, как говорят в Лондоне, был в отличной форме и произвел на меня почти радужное впечатление. Ему предстояла поездка в Париж, а так как железной дороги он не переносил, был подан экипаж, и он предложил мне ехать вместе с ним. Полтора часа он говорил без устали – и говорил как никогда блестяще. Когда мы добрались до Парижа, я вышел на одном из внешних бульваров, так как направлялся в другую сторону; стоя у окна кареты, я простился с Иваном Сергеичем и больше никогда его не видел. Поблизости, в прохладном ноябрьском воздухе, под оголенными деревцами бульвара, гудело нечто вроде ярмарки, и из-за ширм балагана, где шло кукольное представление, доносился гнусавый голос Полишинеля. Я начинаю жалеть, что, перечисляя эти подробности, которыми, боюсь, чрезмерно увлекаюсь, я невольно слишком много говорю о Париже: у читателя может создаться впечатление, будто Иван Тургенев офранцузился. Но это отнюдь не так: жизнь в столице Франции была для него не столько необходимостью, сколько случайностью. Париж оказывал на Тургенева немалое воздействие в одних отношениях, но никакого – в других, а благодаря замечательной русской привычке постоянно освежать ум и память, он всегда держал окна открытыми на широкие просторы, раскинувшиеся далеко за парижскую banlieue.