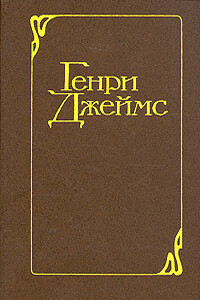Последовавший вскоре затем роман «Рудин» может, пожалуй, служить нагляднейшим свидетельством того предпочтения, которое Тургенев оказывает темам, опирающимся на изображение характера – даже, если требуется, непривлекательного характера. У нас не было сейчас возможности освежить в памяти эту историю, но мы не забыли, что в свое время она заинтересовала нас удивительным свойством – атмосферой психологической достоверности, свободной от привычного психологического набора. Тема романа относится к числу тех, которые мало что говорят неразвитому воображению: в ней выведен характер необычайно неровный, неустоявшийся, неопределившийся, идущий в разрез с распространенными романтическими представлениями. Димитрий Рудин, подобно многим другим тургеневским героям, оказывается несостоятельным в нравственном отношении – это одна их тех сложных на свою и чужую беду натур, которые доставляют друзьям так много радостей и так много огорчений, которые способны и вместе с тем неспособны на великие дела; натуры сильные в своих порывах, словах, ответных побуждениях, но слабые волей, поступками, способностью чувствовать и действовать по собственному почину. Подобный тип, всегда столь же интересный для людей с богатым воображением, сколь непереносимый для людей рациональных, хорошо известен нам по «Орасу» Жорж Санд, запечатлевшей его крупными, свободными мазками; тургеневский герой – тщательно выписанная миниатюра. Тому, кто не читал «Рудина», вряд ли откроется, какие тонкие штрихи способен наносить тургеневский карандаш. Но при всей психологической проницательности Тургенева, равно как и всей широте обобщения Жорж Санд, их живопись была бы невыразительна, а романы скучны, если бы и тот и другая беспрестанно не заботились о драматической стороне повествования. У Тургенева положительно все принимает драматическую форму; он, очевидно, вообще неспособен представлять себе что-либо вне ее, постигать что-либо в виде голых идей; идея в его сознании всегда воплощается в того или иного индивида, с тем или иным носом и подбородком, в той или иной шляпе и жилете, которые так же выражают эту идею, как внешний вид печатного слова – заключенное в нем значение. Абстрактные возможности тотчас претворяются сознанием Тургенева в конкретные положения, где каждая деталь не менее искусно подобрана и определена к своему месту, чем в интерьерах Месонье.[199] Вот отчего, читая Тургенева, мы всегда смотрим и слушаем, и порою нам даже кажется, что из-за отсутствия путеводной нити пояснений видим много больше, чем понимаем (…)
III
О писателях, пользующихся нашим особым вниманием, всегда хочется узнать больше, чем удается из их произведений, и многих американских читателей, надо полагать, одолевает дружеское любопытство относительно частной жизни и личности Тургенева. Увы, мы вынуждены сознаться, что наши сведения на этот счет крайне скудны. Из сочинений нашего автора мы заключаем, что его вполне можно назвать гражданином мира, что он живал во многих городах, был принят во многих кругах общества, и притом нам почему-то кажется, что он принадлежит к так называемым «аристократам духа» и если бы человеческая душа была так же зрима, как телесная оболочка, она предстала бы перед нами, поражая изяществом рук и ног, равно как и носа, обличающими подлинную патрицианку. Некий наш знакомый, неудержимый фантазер, даже утверждает, что автор «Дыма» (который он считает шедевром Тургенева) попросту изобразил себя в Павле Кирсанове. Двадцать шансов против одного, что это не так, но все же мы позволим себе сказать, что для читателя, дерзающего иногда строить догадки, очарование тургеневской манеры во многом заключается именно в этом трудно постижимом сочетании аристократического духа и демократического ума. Его пытливому уму мы обязаны разнообразием и богатством показаний о человеческой природе, а его взыскательному духу – изяществом формы. Но стоит ли бесцеремонно доискиваться причин, коль скоро так многозначительны результаты? Ведь главный вопрос, когда речь идет о романисте или поэте – как он видит жизнь? Какова в конечном счете его философия? Когда подлинно талантливый писатель достигает зрелости, мы вправе искать в его произведениях общего взгляда на мир, который он столько времени старательно наблюдал. Это и есть самое интересное из всего, что открывается нам в его сочинениях. Любые подробности интересны постольку, поскольку помогают уяснить его символ веры.