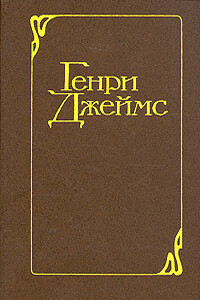Мне кажется, что, проснувшись однажды утром, я увидел их всех разом: Ральфа Тачита и его родителей, мадам Мерль, Озмонда с дочерью и сестрой, лорда Уорбертона, Каспара Гудвуда и мисс Стэкпол – парад участников истории Изабеллы Арчер. Я узнал их, они были мне знакомы, были непременными условиями моей задачи, зримыми пружинами моей «интриги». Они словно сами собой, по собственному почину, появились на моем горизонте с единственной целью – откликнуться на мучивший меня вопрос: что же она будет у меня делать? Ответ их, по-видимому, сводился к тому, что, если я согласен им довериться, они мне это покажут; и я им доверился, умоляя при этом только об одном: постараться придать повествованию возможно большую занимательность. Они были чем-то вроде распорядителей и музыкантов, прибывших всей компанией на поезде в загородный дом, где собираются дать бал; их подрядили выполнить контракт, заключенный на устройство этого бала. Такие отношения с ними – даже со столь ненадежной (по причине непрочности ее связи с ходом событий) особой, как Генриетта Стэкпол, – вполне мне подходили. Какой писатель, особенно в решительный для себя час, не помнит о той истине, что в любом произведении одни элементы относятся к сути, другие – к форме, одни характеры и положения принадлежат сюжету, так сказать, непосредственно, другие – лишь косвенно, являясь в целом лишь частью механизма повествования. Однако какая ему от этой истины выгода, коль скоро она не находит подтверждения в критике, основанной на правильном понимании искусства, и такой критики у нас почти что и нет. Впрочем, позволю себе заметить, писателю не пристало думать о выгодах – на этом пути легко оступиться! – разве что об одной-единственной, именуемой вниманием в самой его простой, даже простейшей форме; ее-то он и должен подчинить своим чарам. Вот все, на что автор имеет право; он не имеет ни малейшего права – и вынужден себе в этом признаться – ожидать от читателя ничего такого, что явилось бы результатом работы мысли или проницательной оценки. Конечно, он может удостоиться этой величайшей награды, но лишь на том условии, что примет ее как милостивое «подаяние», как чудесный дар, как плод, упавший с дерева, которое он и намерения не имел трясти. Против работы мысли, против проницательной оценки в пользу писателя ополчились, кажется, все силы земные и небесные, а потому, повторяю, он с самого начала должен приучить себя работать только ради «куска хлеба». Его кусок хлеба – это тот минимум внимания, который необходим, чтобы подействовали «чары» искусства. А все усилия читательского разумения сверх и свыше того – не более чем случайные, хотя и желанные «чаевые», золотое яблоко, свалившееся на колени к автору с растревоженных ветром ветвей. Разумеется, художник с его безудержной фантазией всегда будет мечтать о Рае (для искусства), где он мог бы на законных основаниях взывать непосредственно к разуму, и вряд ли можно надеяться, что его неуемная душа когда-нибудь совсем откажется от этой своей причуды. Пусть хотя бы помнит, что это только причуда, – большего от него нельзя и требовать.
Все это рассуждение лишь ловкий маневр, для того чтобы сказать, что Генриетта Стэкпол из «Портрета» является превосходным примером, подтверждающим ту истину, о которой шла речь, – я даже сказал бы превосходнейшим, если бы Мария Гострей из «Послов»,[188] тогда еще пребывавшая в зародыше, не была еще лучшим. Обе эти особы служат всего только колесами в нашей карете; ни та, ни другая не входит в ее корпус, равно как не удостаивается чести занять место внутри. Там располагается его величество Сюжет в лице «героя и героини» и тех привилегированных сановных особ, которые ездят вместе с королем и королевой. По многим причинам очень бы хотелось, чтобы читатель это почувствовал, как, впрочем, хотелось бы, чтобы он почувствовал и все остальное в романе совсем так, как чувствовал сам автор, когда его писал. Но мы уже видели, сколь бесполезно предъявлять подобное требование, и я отнюдь не собираюсь чрезмерно на нем настаивать. Итак, повторяю: и Мария Гострей,