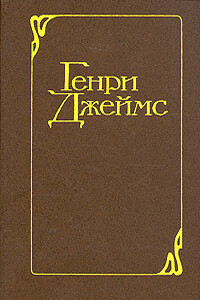– Не вздумайте рассказывать мне о его любовных приключениях – сплошь рассудочных, надо полагать; меня они не интересуют! – воскликнула миссис Тачит. – Ваши слова отлично объясняют, почему я хочу, чтобы он прекратил свои визиты. У него, насколько я знаю, ничего нет – разве что десяток-другой полотен старых мастеров и эта кривляка-дочка.
– Старые мастера сейчас весьма в цене, – сказала мадам Мерль, – ну а дочка его совсем юное, совсем невинное и безответное создание.
– То есть совершенно бесцветное существо. Вы это хотели сказать? Состояния у нее нет и, стало быть, по здешним нравам, нет и никакой надежды выйти замуж, а потому Изабелле пришлось бы либо содержать ее, либо снабдить приданым.
– Может быть, ей захочется обласкать бедняжку. По-моему, девочка ей нравится.
– Тем больше оснований желать, чтобы Озмонд прекратил свои визиты. А то не пройдет и недели, как моя племянница, чего доброго, вообразит, будто ее жизненная миссия – доказать, что мачехи способны на самоотвержение. Ну а чтобы доказать это, надобно для начала самой стать мачехой.
– Из нее вышла бы очаровательная мачеха, – улыбнулась мадам Мерль. – Однако я вполне разделяю ваше мнение: в выборе цели жизни лучше не спешить. Изменить ее так же сложно, как форму носа. То и другое занимает слишком видное место в нашем существовании: первое – определяет характер, второе – лицо, и, чтобы переменить их, пришлось бы вернуться к истокам. Впрочем, я все разузнаю и сообщу.
Эти разговоры велись за спиной Изабеллы, нимало не подозревавшей о том, что ее отношения с Озмондом стали предметом обсуждений. Мадам Мерль не проронила ни слова, которое могло бы ее насторожить: она упоминала имя Озмонда не чаще, чем имена прочих джентльменов, коренных флорентийцев и заезжих, которые в большом числе являлись в палаццо Кресчентини выразить почтение тетушке мисс Арчер. Сама Изабелла находила Озмонда интересным – первоначальное ее впечатление подтвердилось, и ей нравилось думать о нем. Из поездки на вершину холма она унесла с собой некий образ, который дальнейшее знакомство с Озмондом не только не перечеркнуло, но, напротив, привело в полную гармонию с тем, что она предполагала или угадывала и что составляло как бы рассказ внутри рассказа – образ тихого, умного, тонко чувствующего, достойного человека; он прогуливался по мшистому уступу над чудесной долиной Арно, держа за руку девочку, чей чистый, как колокольчик, голосок сообщал новое очарование поре, именуемой детством. Картина эта не поражала пышностью, но Изабелле нравились ее приглушенные тона и разлитая в ней атмосфера летних сумерек. Эта картина говорила о таком повороте человеческой судьбы, который более всего трогал Изабеллу: о выборе, сделанном между предметами, явлениями, связями – какое название придумать для них? – мало значащими и значительными, об уединенном, отданном размышлениям существовании в прекрасной стране; о старой ране, все еще дававшей о себе знать; о гордости, быть может, и чрезмерной, но все же благородной; о любви к красоте и совершенству, столь же естественной, сколь и изощренной, под знаком которой прошла вся эта жизнь – жизнь, похожая на классический итальянский сад с его правильно разбитыми перспективами, ступенями, террасами и фонтанами, где непредусмотренной была лишь роса естественного, хотя и своеобразного отцовского чувства, тревожного и беспомощного. В палаццо Кресчентини Озмонд оставался все тем же: был застенчив – да, да, он, несомненно, робел, – но исполнен решимости (заметной только сочувственному взгляду) совладать с собой, а совладав с собой, начинал говорить – свободно, оживленно, весьма уверенно, несколько резко и всегда увлекательно. Он говорил, не стараясь блистать, что только красило его речь. Изабелла с легкостью верила в искренность человека, выказывавшего все признаки горячей убежденности, – например, он так открыто, с таким изяществом радовался, когда поддерживали его позицию, особенно, пожалуй, если поддерживала Изабелла. Ее по-прежнему привлекало и то, что, занимая ее беседой, он, в отличие от многих других, кого она слышала, не старался «произвести эффект». Он выражал свои мысли, даже самые необычные, так, словно свыкся и сжился с ними, словно это были старые отполированные набалдашники, рукоятки и ручки из драгоценных материалов, хранимые, чтобы при случае поставить их на новую трость – не на какую-нибудь палку, срезанную с обычного дерева, которой пользуются по необходимости, зато размахивают чересчур элегантно. Однажды он привез с собой свою дочурку, и эта девочка, подставлявшая каждому лоб для поцелуя, живо напомнила Изабелле ingénue