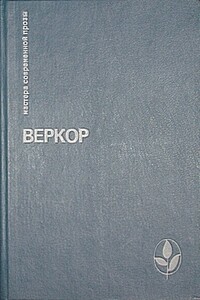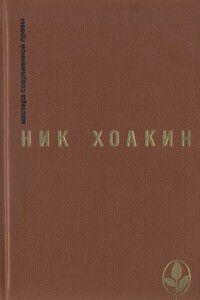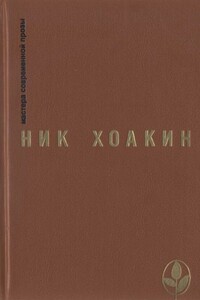— Я не предлагаю ничего упразднять, падре. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.
— С вашим идолом?
— Нет, его мне тоже пришлось отвергнуть.
— А вдруг вы обнаружите, что он вас не отверг?
— Что вы хотите этим сказать, падре?
— Ваша любовь могла пробудить в нем страсть.
— О падре, бедный Биликен всего лишь папье-маше!
— Уже нет. Вы вдохнули в него жизнь.
— И потом он там, далеко.
— Он настигнет вас где угодно.
— Неужели мне суждено вечно убегать от чего-то?
— Да — до тех пор, пока вы не примете мир сей таким, какой он есть.
— Но зачем мне его принимать? Вы ведь отреклись от него?
— Когда я вступил в орден, я отрекся от мирской суеты, но не от самого мира и надеюсь, что со временем смогу относиться к нему отстраненно, без страха и ненависти. Каким бы грешным ни был этот мир, и именно потому, что он грешен, только в нем люди могут обрести спасение. Но вы, дитя мое, отказались от надежды на спасение в этом мире. Вы отреклись от него, как то делали ведьмы.
— А разве это так уж плохо, падре? О, поверьте мне, я вовсе не плохая!
— Я думаю, ведьмы тоже не были плохими. Полагаю, что они были хорошими, благородными и почтенными женщинами — более того, столь добродетельными, что все остальные выглядели в сравнении с ними безнадежными грешниками. В этом, кстати, и заключалась разница между ними и святыми: святые считали себя безнадежными грешниками, а ведьмы верили, что мир настолько погряз в скверне, что остается лишь уничтожить его. Они понимали — и правильно понимали, — что все человеческие установления, вся мирская власть, вся человеческая любовь — все это преходяще, а потому в отвращении пытались отречься от человечества. Они начинали с того, что алкали неба, а кончали тем, что попадали в объятия дьявола, и так бывает всегда, когда хочешь достигнуть бога в обход и помимо человечества. Отвращение к миру сему, дитя мое, слишком часто порождает не святость, а одержимость злом.
— Не всем дано преодолеть отвращение к этому миру, падре.
— Вы имеете в виду себя?
— Но я вовсе не считаю, что я лучше любого другого человека.
— Тогда как же вы осмеливаетесь отвергать других людей только потому, что они — люди?
— Может быть, я еще недостаточно взрослая и не привыкла к тому, что людям приходится творить в этом мире.
— И вам, в сущности, не хочется привыкать к нам, людям, так?
— Но нужно ли мне это, падре? Разве так уж необходимо когда-нибудь захотеть привыкнуть к тому, что сейчас для меня невыносимо?
Она подастся вперед и вопросительно заглянет ему в глаза, но увидит в них только тревогу и невыразимую скорбь.
— О падре! Что происходит? Что плохого я делаю?
— Вы пытаетесь ввести в смущение тех из нас, кто научился принимать мир сей.
— Разве это моя вина, что я не могу научиться этому так же быстро, как другие?
— Вы сеете смущение в умах и разрушаете в людях веру.
— О, я что-то не много видела ее в других.
— Но по меньшей мере мы всегда знали, что верить — хорошо, по меньшей мере мы знали, что реально, а что нет. Люди, подобные вам, — пятая колонна дьявола, они подрывают нашу уверенность в правоте. Вы сеете страх и недоверие, и в конце концов мы начинаем сомневаться в наших собственных чувствах, в конце концов мы начинаем верить в мир, где у людей два пупка, в мир, где каждый день — субботний вечер и карнавал.
— Но ведь все думают, что я сумасшедшая. Зачем принимать меня всерьез?
— Потому что очень трудно поддерживать мир в движении, постоянно возникает искушение отказаться от усилий. Потому что есть время сеять и время жать, есть время строить и время восстанавливать постройку, за падением неизбежно следует взлет. И каждый день все надо начинать сначала. В нашем мире всегда — понедельник и утро.
— Но разве этот мир стоит подобных усилий? Зачем людям так надрываться ради того, чтобы продолжать страдать? Почему нельзя, чтобы всегда был субботний вечер и карнавал?
— Самый бессердечный преступник не так опасен, как вы.
— Но почему всегда должен быть понедельник?
— Вы незаметно подкрадываетесь к нам и нашептываете: Пойдемте в нашу вечную субботу, пойдемте на наш карнавал… К чему столько усилий, расслабьтесь, пусть все остановится…