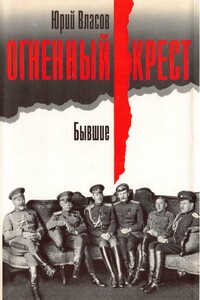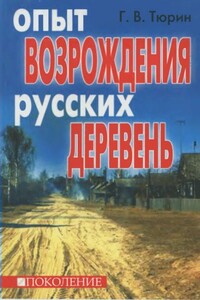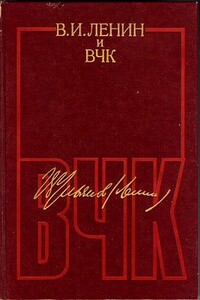«Женевский» счёт - страница 279
С разворотом революционных событий (после февраля 1917 г.) Колчак постоянно пишет Анне Васильевне Тимиревой.
Это особые письма. Все, что происходит, настолько диковинно, исполнено такого смысла — он составляет одно за другим послания дорогой женщине. Он не может не делиться. Он постоянно помнит о ней, это самое верное и глубокое чувство. Оно вызвано не менее страстным чувством молодой женщины.
Таким образом, письма становятся и памятью исторических событий, и выражением его чувств. И все преломляется наличность самого адмирала.
В общем, это и дневник, и не дневник. Это память о женщине и о времени, в которое им выпало любить.
В 1927 г. бывший подполковник Апушкин передает записи Русскому заграничному архиву за 150 (!) долларов — две общие тетради, 243 страницы текста.
В 1945 г. правительство Чехословакии передало письма Колчака к Тимиревой («дневник») в Государственный архивный фонд СССР. Тетради поступили в ЦГАОР СССР, где и хранятся до настоящего времени.
Круг замкнулся… А та, которой эти письма предназначались, так и не владела ими.
Может быть, Колчак не доверял почте. Может быть, не питал уверенности в том, где ныне его Анна. Может быть, сначала писал с надеждой отправить письма, вот-вот даст о себе знать и подвернется оказия. Ясно одно: сохранение копий писем он считал весьма важным — слишком значительны события, чтобы не закрепить память о них, так сказать, документально.
А уж после марта 1918 г., когда во второй тетради появилось последнее письмо, продолжать «дневник» теряло смысл. Вот-вот они должны были встретиться: Александр Васильевич и Анна.
И тут уж без писем он скажет ей все.
Как чисто и жарко любит.
Как ненавидит революцию (иначе не стал бы белым вождем).
Как отвратителен народ, доведенный демагогией большевиков до истерии и погромов, казнящий даже детей (он слишком хорошо осведомлен об убийстве царской семьи).
Как бессмысленна демократия толпы: вся из инстинктов.
Как предан он войне и военной службе («война прекрасна»).
Как хочет продолжить службу, но уже в вооруженных силах США или Великобритании («Пусть правительство Короля смотрит на меня не как на вице-адмирала, а как на солдата, которого пошлет туда, куда сочтет наиболее полезным»).
Колчак готов отвоевывать Россию у большевиков с англичанами, французами, американцами и даже японцами, вчерашними врагами России. Для него большевики — захватчики Родины, союзники врага (немцев, австрийцев, болгар, турок), губители Отечества.
Вот «послужной» список Колчака, приобретающий в письмах к возлюбленной четкий рисунок.
Растущее недоумение: флот превращается в сброд и опасную, неуправляемую среду. С ростом этого недоумения и складывается ненависть к разрушителям флота и армии — это могучая убежденность, самое важное дело жизни.
Отставка и жизнь в Петрограде, щедрая на важные встречи, постоянная горечь: служил Родине — и отстранен, выброшен… за ненадобностью. А ведь он столько дал ей для отражения врага! Он не сомневается: это останется в памяти потомков.
Единственное светлое пятно тех дней — приглашение посла Э. Рута выехать в США и принять участие в войне против Германии. Тогда в беседе участвовал и американский контр-адмирал Гленнон. Разговор деловой и уважительный. А здесь одна грязь, грязь…
Колчак отстранен от участия в войне. В Петрограде он… не то подследственный, не то опальный командующий Черноморской эскадрой.
Под ядовитой антивоенной агитацией большевиков разваливаются армия, флот и тыл. Единственно реальная возможность участия в войне — служба в союзных вооруженных силах. Он, вице-адмирал Колчак, источник бесценного опыта; через войну с японцами в Порт-Артуре и нынешнюю — с кайзеровской Германией — он осознал и опробовал самые действенные приемы минной войны. На минах увязла армада германского флота. И этот опыт теперь никому не нужен… так, хлам.
«Возрождение нации без войны» исключено. Разве вся история России не расширение границ? Разве это не сказалось на судьбе и характере народа? Разве он, народ, не выковывал свою государственность в защите и расширении границ? Разве нет такого понятия — «великоросс»?..