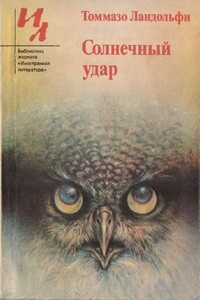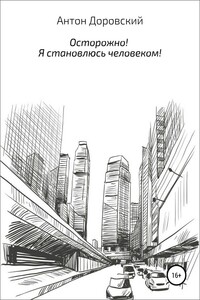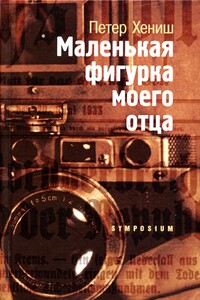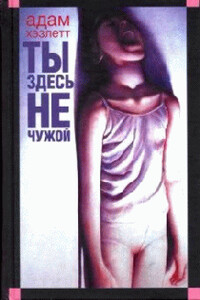Странно ощущать эту драму опустошения, развернутую в декорациях конца войны. Странно — потому что господствующее настроение массы людей в тот исторический момент — радость освобождения. Итальянская культура середины 40-х годов оставила на этот счет более чем ясные свидетельства; даже у несентиментального Бернардо Бертолуччи много лет спустя, в финале фильма «Двадцатый век», передано тогдашнее солнечное ощущение наступившего мира
Ландольфи грустен. Как сказал о нем один критик, он начинает там, где большинство заканчивает. Он, кажется, чужд тех простых радостей, что испытывали люди, дожившие до падения Режима. Он далек от мироощущения неореалистов, на «двух грошах надежды» взращивавших в послевоенной Италии солнечно-реальный мир. Ничего весеннего нет в «Осенней истории» Ландольфи. Это повесть не о возрождении жизни — она о невозродимости, о невосстановимости, непоправимости. Она о том, что падает в тень, за пределы точки, в которой личность признает свое «отсутствие».
Вы спросите: что же толкает человека кружить по этому элизиуму теней, если он — Ничто? А он ответит: Ничто.
И все-таки будет кружить дальше.
Ландольфи всматривается в Отсутствие так пристально, что оно приобретает предметность. Он так прикован к Мнимости, что она начинает сама себя «держать», сама себя ощупывать, сама себя питать. «Мнимость мнимости». Или так: «ирреальность ирреальности» — как сформулировал «эффект Ландольфи» итальянский критик Панкраци, явно положивший в это лоно одну из красивейших гегелевских формул. Отрицание отрицания... а лучше так: отрицание отрицания отрицания... и далее — скольжение в бесконечность, сопротивление небытию, равное небытию и питаемое знанием небытия.
Один из обыкновенных парадоксов одного из самых парадоксальных писателей в середине одного из самых парадоксальных веков в человеческой истории.
Позднее, в философском диалоге «Фауст-67» (этом парадоксально «обернутом» из Гёте в «антисмысл» поиске смысла), перебирая варианты реальности, рассеченной и канувшей в небытие, Ландольфи особо выделит четыре:
— деспотизм и сопровождающее его тотальное насилие;
— азарт игры, имитирующей жизнь;
— радости писательского тщеславия;
— эрос.
В этих четырех вариантах можно проследить хождение его духа по мукам.
Режим просквозил сквозь душу, как сквозь мертвое место. С «победителями» — ничего общего, никогда; но и с «сопротивлением» — никакого настоящего контакта. «Два чужеземных войска...» Можно соотнести позицию Ландольфи с позицией Дино Буццати или Альберто Савинио, тоже не отдавших себя ни той, ни этой стороне, но есть существенные различия. Буццати — железный профессионал, журналист, работник, способный поехать в Абиссинию, писать оттуда репортажи и — не запачкаться; на следующий день после падения Режима Буццати на велосипеде возвращается в редакцию газеты «Коррьере делла сера», и продолжает, как ни в чем не бывало, писать «заметки». У Ландольфи нет такой профессиональной брони. Нет у него и отчужденной брезгливости Савинио, с которой тот наблюдает немцев из своего Замка, как может энтомолог наблюдать насекомых. Ландольфи — не защищен ничем в своем «неучастии»: насилие опустошает и выворачивает его душу. Это «конец литературы как жизни и начало литературы как смерти» — формула Сангвинети особенно точна, если принять «русский взгляд» на литературу как на путь к разрешению последних вопросов, к исчерпанию последней правды, а Ландольфи хорошо знаком с этим «русским взглядом».
Поразительный писательский эпизод — возвращение Ландольфи к раннему, студенческому еще, рассказу, первому, кажется, из опубликованных, — к «Марии Джузеппе». Тут все поразительно: и сам факт, что четверть века спустя, в 1954 году, маститый писатель возвращается к своему юношескому этюду, и не затем, чтобы исправить его, а затем, чтобы все рассказать заново, и то, какую правду он договаривает, и то, как укрывается он от этой правды в 1929 году.
Марокканцы насилуют служанку, простую набожную женщину, и она умирает.
Марокканцы — это война, это знак ужаса, нашествия, насилия. Не в силах вынести происшедшее, молоденький рассказчик не просто скрывает факт насилия, он ставит на место насильников — себя, он наивно маскируется под дурачка и подлеца, бесцельно издевающегося над собственной нянькой, — только бы вытеснить из реальности деспотическую силу, ломающую в человеке достоинство.