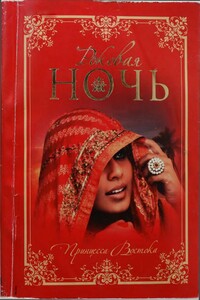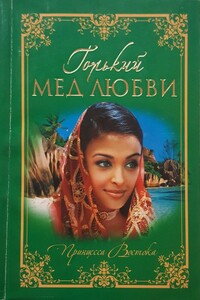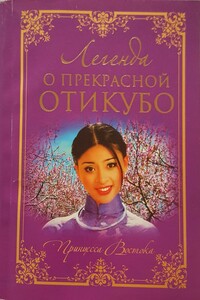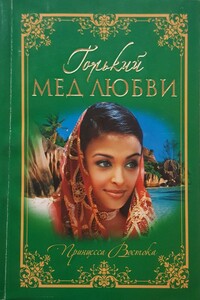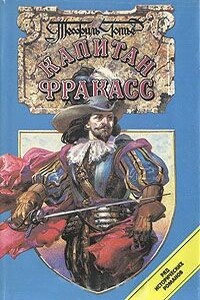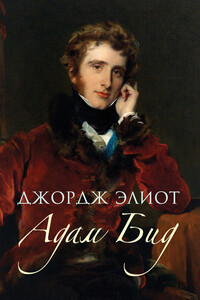— Это правильно, — сказал один вельможа шепотом, — этот воин, несмотря на всю свою молодость, уже обладает достоинством и опытом старца.
Сигнэнари развернул сверток.
— Вот слова моего государя, сегуна Фидэ-Йори, сына сегуна Таико-Самы, — сказал он и прочел сверток, который держал в руках:
«Я, Фидэ-Йори, главнокомандующий армиями микадо, соглашаюсь для прекращения несправедливой войны, которую объявил ныне Гиэяс и которая разоряет государство, принять одно из условий, предписанных мне противником для заключения мира: я разрушу первую стену крепости Осаки и засыплю рвы; следовательно, вражда прекращается, и мы сложим оружие. Написано с полной искренностью, в пятнадцатый день второй луны осенью, в девятнадцатый год Нэнго Кай-Тио. И подписано моей кровью: Фидэ-Йори».
— Если так, — сказал Гиэяс своим слабым, дрожащим голосом, — я принимаю мир.
Он велел принести письменные принадлежности и продиктовал секретарю:
«Я, Минамото Гиэяс, провозглашенный сегуном предшественником Го-Митсу-Но, от имени сегуна Фидэ-Тадда, в пользу которого я отрекся, соглашаюсь прекратить войну на условии, что Фидэ-Йори сроет стены замка Осаки и засыплет его рвы так, чтобы трехлетний ребенок шутя мог входить и выходить оттуда».
Гиэясу подали новую кисть и длинную иглу, которой он должен был уколоть себе палец, чтобы подписаться своей кровью.
Он сделал себе легкий укол, из которого показалась бледная капелька крови, тем не менее, он подписался, и договор передали Сигнэнари.
— Этого недостаточно, — сказал генерал, взглянув на бумагу, — кровь слишком бледна. Твоего имени нельзя прочесть. Повтори.
— Но, — сказал Гиэяс, — я стар, слаб и болен, для меня драгоценна каждая капля крови.
Сигнэнари сделал вид, что не слышал.
Гиэяс, вздохнув, сделал новый укол и обвел подпись яснее. Только тогда молодой генерал дал ему договор, подписанный Фидэ-Йори.
В Осаке царила безумная радость. Этот город веселья, роскоши, вечных празднеств питал отвращение к войне, к политическим столкновениям, трауру, ко всему, что ему мешало развлекаться: развлечение было главной целью жизни для его жителей. Так это кончено! Теперь можно заменить лицо, вытянутое от горя и беспокойства, широкой физиономией, расплывавшейся в улыбку. При первом известии о мире весь город пустился плясать. Матросы плясали на набережной Йодо-Гавы, купцы на пороге своих лавок, слуги во дворе дворцов. Богатые обыватели, чиновники, дворяне были не менее рады, хотя и выражали свое удовольствие более сдержанно. В особенности принцессы были счастливы: заключенные в своих дворцах, покинутые мужьями, они думали, что состарятся до окончания войны. Все как бы очнулись от кошмара. Теперь опять можно щеголять красотой, улыбаться, наряжаться.
Они бросились к большим лакированным сундукам и стали вытаскивать оттуда роскошные платья, пропитанные запахом мускуса и драгоценного дерева, которые они запрятали туда, чтобы надеть более темную одежду. На полу лежала груда чудного атласа, шелка, крепа самых нежных цветов. Но эти наряды казались немного выцветшими и помятыми, и стали посылать за фабрикантами, портными, швеями.
При дворе в тот же вечер был назначен праздник на воде, в котором могли участвовать богатые жители Осаки. Все были как в лихорадке. Для приготовления и укрепления лодок было мало времени.
Настал вечер: река осветилась огнями. От берегов отчалили тысячи лодок с гирляндами из фонарей, они медленно плыли вверх и вниз по реке.
Вскоре прибыли и придворные лодки. Они были больше и красивее других, покрывавшие их шелковые материи свешивались до воды, они были освещены огромными круглыми фонарями из газа или цветного стекла; над ними развевалось бесчисленное множество разноцветных флагов. Под навесами великолепных палаток лежали, беспечно растянувшись на подушках и утопая в свете огней — видно было блестящее шитье их роскошных одежд — грациозные женщины. При мягком свете огней видно было блестящее шитье их киримонов и большие светлые булавки в их прическах. Возле них сидели вельможи и говорили им тысячи пустяков, от которых они смеялись, немного запрокидывая голову. По воде прыгали длинные блестящие змейки.