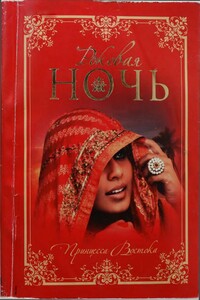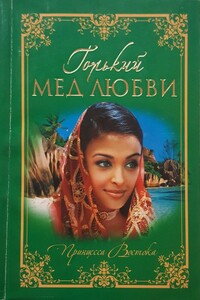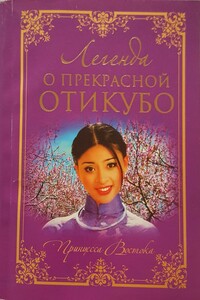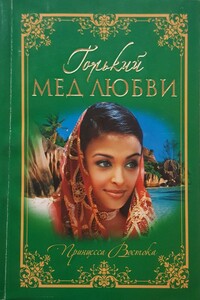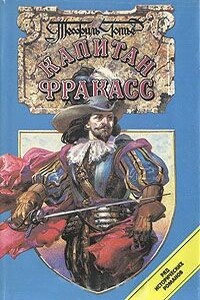Когда Гиэяс вошел в залу, где его ждал Фидэ-Йори, он понял, что должно произойти что-то важное.
В этой зале собрались все приверженцы сына Таико-Самы.
На Фидэ-Йори в первый раз был надет военный царский наряд, который мог носить только он один. На нем была черная роговая кольчуга, тяжелые набедренники из маленьких пластинок, соединенных красными шелковыми узелками, ниспадали на широкие парчовые панталоны, засунутые до колен в бархатные поножья. С обоих боков висело по сабле. На груди блестели три звезды; он опирался на железную трость.
Молодой человек сидел на стуле, как воины в своих палатках.
По правую сторону находилась его мать, прекрасная Йодожими, вся бледная и взволнованная, но великолепно одетая. По левую — принц Маяда, который правил вместе с Гиэясом; он был очень стар и давно болел, а потому держался в стороне от дел; несмотря на это, он наблюдал за Гиэясом и оберегал, насколько возможно, интересы Фидэ-Йори.
С одной стороны расположились принцы Сатсума, Сатакэ, Арима, Аки, Изида, с другой — воины: генерал Санада-Саемон-Йокэ-Мура, в военных доспехах, другие военачальники, Аруфза, Мотто-Тзуму, Харунага, Морицка, и один совсем молодой человек, прекрасный, как женщина, и очень серьезный, по имени Сигнэнари.
Все друзья молодого принца и смертельные враги правителя были в сборе, только Нагато отсутствовал.
Гиэяс обвел гордым взглядом всех присутствующих.
— Вот я! — сказал он вполне твердым голосом. — Я жду: что вам нужно от меня?
В ответ ему было глубокое молчание. Фидэ-Йори с ужасом отвернулся от него.
Наконец принц Маяда заговорил:
— Мы не хотим от тебя ничего, кроме справедливости. Мы хотим просто напомнить тебе одну вещь, которую ты, по-видимому, забыл. Твоя обязанность, как и моя, кончилась уже много месяцев тому назад, Гиэяс, а ты, в твоем рвении к управлению страной, забыл об этом. Сын Таико сам достиг теперь возраста, когда может управлять, значит, твое управление кончилось, и тебе остается только сложить твои полномочия к ногам государя и отдать ему отчет в твоих поступках, так же, как я отдал ему отчет в моих действиях за все время, пока он находился под нашей опекой.
— Ты не думаешь о том, что говоришь! — вскричал Гиэяс, вспыхнув от гнева. — Ты, вероятно, хочешь довести страну до гибели?
— Я говорил мягко, — возразил Маяда, — не заставляй меня переменить тон.
— Ты хочешь, чтобы неопытный ребенок, — продолжал Гиэяс, не обращая внимания на то, что его прервали, — не приучившись сначала к трудному положению главы государства, взял в руки власть?.. Да это все равно, как если бы ты дал тяжелую фарфоровую вазу в руки новорожденного; так он уронит ее на землю, и ваза разобьется на тысячу кусков.
— Ты оскорбляешь нашего сегуна! — вскричал принц Сатакэ.
— Нет! — сказал Гиэяс. — Фидэ-Йори сам согласится со мной. Нужно, чтобы я постепенно вводил его в мои занятия и указал на возможные решения разбираемых вопросов. Занимался ли он когда-нибудь делами страны? Его молодой ум еще не созрел, и я сумел отстранить от него заботы правления. Я один владею распоряжениями великого Таико, и я один могу продолжать гигантское дело, которое он предпринял. Оно еще не кончено. Следовательно, чтобы повиноваться этому почтенному главе, я должен, несмотря на твое желание, удержать в своих руках доверенную мне власть. Только чтобы показать тебе, что я считаюсь с твоими советами, с сегодняшнего же дня молодой Фидэ-Йори примет участие в важных занятиях, тяжесть которых я нес до сих пор один. Отвечай, Фидэ-Йори! — прибавил Гиэяс. — Объяви сам, что слова мои тебе по сердцу.
Фидэ-Йори медленно повернул к Гиэясу свое очень бледное лицо и очень пристально посмотрел на него. Потом, после минутного молчания, он сказал немного дрожащим, но полным ненависти голосом:
— Шум, который произвел обрушившийся у моих ног Ласточкин мост, сделал меня глухим к твоему голосу.
Гиэяс побледнел перед тем, кого он пробовал толкнуть на верную смерть, он был уничтожен своим преступлением. Его высокий ум страдал от этих пятен крови и грязи, которые попали на него. Он видел, как они в будущем омрачали его имя, которое он хотел видеть славным, уверенный, что его обязанность относительно страны заключалась в сохранении в своих руках власти, которой он был достоин больше, чем кто-либо другой. Он ощущал какой-то гнев, так как был принужден навязывать силой то, о чем его должны были настоятельно просить во имя общественных интересов. Тем не менее, решившись бороться до конца, он поднял голову, склонившуюся на минуту под тяжестью буйных мыслей, и обвел присутствующих строгим, властным взглядом.