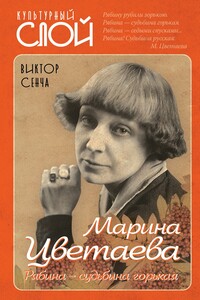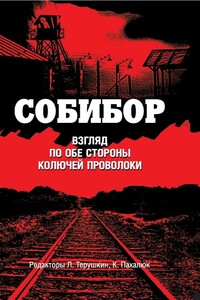Из сообщения командующего Северо-Урало-Сибирским фронтом Р. Берзина от 11 июля в Наркомат по военным делам: «…С занятием противником Уфы вся железная дорога Самара – Уфа – Челябинск – Омск оказалась в руках противника, вследствие чего он может свободно перебрасывать свои силы вдоль всего фронта и во всякое время… Части 2‐й армии отошли в неизвестном направлении и связь с ними потеряна… Принять какие-либо серьезные меры для обеспечения правого фланга моего фронта от… обхода я не в состоянии, ибо не имею ни сил, ни средств для удлинения фронта»[72].
Ещё через месяц кинется в бега командующий Восточным фронтом Муравьёв. [73]
От Волги до Тихого океана с большевистской Советской властью было покончено. Правда, ненадолго…
* * *
А куда же подевалась потрёпанная под Уфой 2‐я советская армия?
Армия, которую менее чем за месяц предало три командарма, попросту… рассеялась. С трудом сконцентрировавшись в районе Сарапул – Николо-Берёзовка, «армия» Виктора Блохина, едва унесшая ноги из-под Уфы, была небоеспособной и представляла собой жалкое зрелище. Да и сам Блохин (то ли бывший штабс-капитан, то подполковник Генштаба царской армии), неплохо показавший себя во главе относительно небольшого отряда, был назначен на должность в самый последний момент, за неимением более подходящей кандидатуры.
Армии как таковой не существовало. И командующему оставалось единственное: собирать со всех концов десятки крайне недисциплинированных и деморализованных мелких отрядов и боевых дружин в единое целое и создавать из них заново что-то похожее на военную структуру. Рейд Каппеля к Казани, а также всякого рода восстания усугубляли ситуацию в разы.
Из воспоминаний очевидца о состоянии 2‐й армии в те дни:
«В Сарапуле я был впервые, поэтому с большим любопытством приглядывался ко всему. Однако очень скоро моё внимание поглотило одно явление. Всюду, на всех улицах, на площадях, мы наталкивались на толпы вооружённых людей в военной форме, бойко и шумно торговавших сапогами и заготовками. У большинства на одном плече вниз стволом висела винтовка, на другом – связка новеньких сапог или заготовок. Растащили ли военный склад, раскупили ли по дешёвке, а может, и разграбили запасы мастерских – кто знает. Горожане, напуганные, подавленные, подтверждали и то, и другое, и третье. В толпе с озабоченными и растерянными лицами ходили подтянутые командиры, как видно, из бывших офицеров, разыскивавшие своих подчиненных для посылки в очередной наряд. Одни посмеивались над ними, как над старорежимниками, золотопогонниками, другие, отвернувшись, старались не замечать.
– Не войско, а сброд какой-то! – вырвалось у Лямина, и он зло выругался»[74].
Именно в это время восстал Ижевск.
К чести большевиков, они умели вовремя взять себя в руки. В Сарапуле в кратчайшие сроки исполком Совета сформировал Чрезвычайный революционный комитет, в который вошли председатель ревкома, председатель Совдепа, уездный военком; комендантом города стал прибывший в Сарапул секретарь Казанского губкома Е. Стельмах. Город стал готовиться к обороне.
Штаб 2‐й армии тоже не сидел сложа руки и составил Военно-Революционный комитет по формированию отрядов для отправки их в восставший Ижевск. Из двух тысяч красноармейцев и дружинников решено было создать два отряда. Первый, костяк которого составляли матросы и Уфимский латышский батальон Я. Рейнфельда, прибывший до этого из-под Самары, возглавил небезызвестный В. Антонов-Овсеенко. Вторым отрядом командовал уфимский большевик Александр Чеверёв. В Сарапул он прорвался из-под села Дюртюли, где ему с небольшим отрядом пришлось сдерживать натиск чехословаков. Антонов-Овсеенко выдвинулся на пристань Гольяны на Каме; Чеверёву предстояла не менее ответственная задача: выйдя по Казанской железной дороге на станцию Агрыз, не дать соединиться восставшим ижевцам с белочехами.[75]
Отряду Антонова удалось не только быстро овладеть Гольянами, но и существенно продвинуться к Ижевску, остановившись близ д. Завьялово, в 18 километрах от города. Постепенно к этому отряду стали присоединяться другие, и вскоре под началом Антонова оказались Мензелинский, Казанский, Ржевский, Оханский отряды и Уфимский батальон общей численностью почти 2,5 тыс. штыков. С таким войском можно было смело идти на Ижевск, если бы, конечно, с юга антоновцев вовремя поддержал отряд Чеверёва.