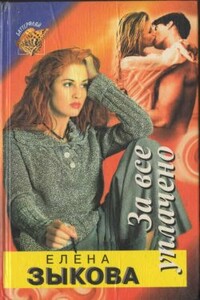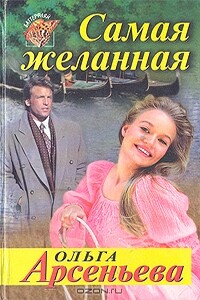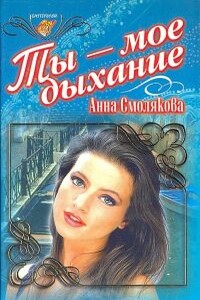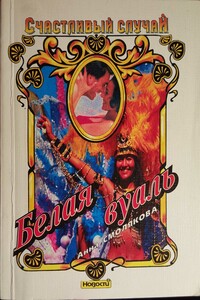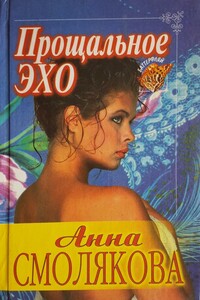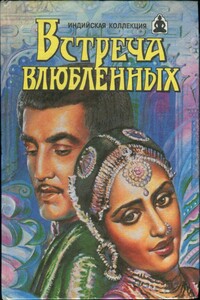Оленька быстро застегнула пуговицы на турецком кожаном пальто, нахлобучила на голову капюшон с опушкой из ламы, лихо закинула конец шарфа за плечо и заявила:
— Ну все, я готова, можно идти.
Оказавшись в коридоре, она первым делом настороженно огляделась по сторонам, словно опасаясь увидеть за каждым углом шпиона, и начала жалобно и задушевно:
— Юль, ты пойми, что твоя личная жизнь никого не касается. Было у тебя что-нибудь с Селезневым или не было — какая кому разница? Это твое, только твое. Я вот вроде бы рассказываю всем про себя и Виталика, смеюсь вместе с вами, но что на самом деле творится у меня на душе, никто ведь не знает… Вот вчера, например…
Юлька шагала по длинному банковскому коридору, аккуратно ставя ноги в шнурованных ботиночках на самую середину зеленой ковровой дорожки. Ей почему-то очень важно было, чтобы ступни оказывались именно на этой мысленно прочерченной линии, причем под углом девяносто градусов друг к другу. Она с абстрактным интересом наблюдала, как опускается на дорожку каблук, потом тупой модный носок, и вспоминала, что в детстве хотела быть балериной, чтобы танцевать в белом красивом платье и, конечно же, разворачивать ноги при ходьбе. Оленька семенила рядом, продолжая излагать душещипательную историю о том, как Виталя запрещает ей курить, тем самым унижая ее достоинство. Юля слушала вполуха, кивала невпопад и думала о том, что до самой «Пушкинской» придется ехать вместе…
— Так вот, представляешь, я ему говорю, — захлебывающаяся от возмущения Зюзенко первой вышла на лестницу и встала, опершись спиной о перила: — так, мол, и так, не надо меня унижать. Если я сказала, что без спроса курить не буду — значит, не буду. А он, паразит, продолжает меня контролировать даже в туалете.
— Пойдем, пойдем, — Юлька легонько потеребила ее за рукав. Оленька секунду помедлила, словно дожидаясь какого-то внутреннего сигнала, а потом отлепилась от перил и зацокала каблучками по мраморным ступеням.
— Нет, ну ты представляешь, даже в туалете!
— Это как? — вяло осведомилась Юля, наконец поняв, что от нее требуется.
— А так! Я захожу в туалет, а он на кухне приставляет к стене табуретку и в окошечко смотрит, курю я или чем-нибудь еще занимаюсь.
— Так ты бы шторки повесила, и все.
— Ну и кого бы спасли эти шторки? Он же их отдернет, не постесняется.
— Да ты их внутри повесь, а не снаружи!
— Слушай, точно! — Оленька, пораженная этим открытием, даже замерла на месте, так и не успев до конца открыть входную дверь с золоченой ручкой и довольно тугой пружиной. Дверь неумолимо поползла обратно. Юлька подставила ладонь, протиснулась между Олей и косяком и вышла на крыльцо.
Небо было пасмурным. От призрачной золотой дымки осени уже почти ничего не осталось, разве что несколько блеклых листьев, чудом держащихся на ветвях кленов и напоминающих жалкие лоскутья некогда шикарного платья. Воздух просто сочился сыростью, несколько ледяных капель упало с крыши Юле на лицо. Она опустила голову, отерла щеку и поежилась. Наступала самая ненавистная осенняя пора, когда еще рано надевать шубу, но уже очень холодно ходить в легком пальто. «Наверное, нужно было купить что-нибудь непробиваемо-турецкое, как у Зюзенко, — подумала она, выпуская изо рта невесомую струйку пара. — Ей-то, конечно, тепло. Она будет и по улице идти не спеша, и возле метро еще полчаса шарахаться, выбирая себе в киоске очередную помаду… Одна надежда на то, что сейчас она «загрузится» мыслями о шторках и рванет домой, воплощать идею в жизнь. А значит, оставит меня в покое…»
Однако тут же Юлька с тоской поняла, что ее мечтам не суждено осуществиться. Вышедшая следом за ней на крыльцо Оленька вдруг тихо и восхищенно произнесла:
— Ой, Юль, смотри…
По одному ее радостно-умиленному тону можно было угадать, что сердобольная Зюзенко увидела очередного пушистого кота с поникшими ушами. Примерно такого, как в рекламе «Тайда», только еще более несчастного. И сейчас начнется очередной бесконечный рассказ о том, как ей хочется иметь дома зверюшку, а сердитый Виталя не позволяет заводить.
— Что там опять? — Юлька обернулась и замерла…