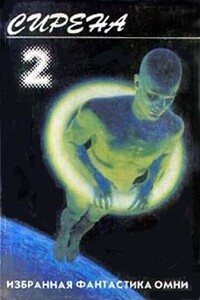— Я вологжанин.
— Темный городишко! На каждые три дома — по церкви, — авторитетным тоном столичного жителя говорит Михайлов. — Кончится война, приезжай ко мне, в Москве поживешь.., — Он закуривает толстую самокрутку.
Скольких за время войны он так приглашал? Эх, показать бы ему, кстати, и «темный» город Вологду. Показать здешние небоскребы, разбросанные среди тропической зелени. И речку, и набережную из пластика, который под влиянием интенсивности света сам меняет цвета…
— Вы чем до войны занимались? — продолжаю этот необходимый, но уже самому неприятный допрос.
— В школе учился.
— А ордена вам за что дали?
— За войну, — грубо отрезает Михайлов. И я понимаю, что ему, фронтовику, неприятно говорить об этом с мальчишкой, который и фашиста- то живого в глаза не видел. Лейтенант неприязненно смотрит на меня, резко выдыхая сразу из обеих ноздрей струи синего дыма.
Потом взгляд его смягчается, добреет. Видимо, он считает, что попросту я боюсь своего первого боя и потому сыплю дурацкими вопросами.
— Я тебе подарок сделаю, — говорит Михайлов, уже улыбаясь. — Небось все училище мечтал….
Из полевой сумки он достает вороненый парабеллум. Калибр девять миллиметров, восемь патронов входит в обойму, — услужливо подсказывает память.
— Держи. Обращаться‑то умеешь?
Обращаться с немецким стрелковым оружием я умею. И я невольно краснею от радости, что у меня будет оружие, которое подарил боевой офицер второй мировой войны.
— Тебе сколько лет? — спрашивает вдруг лейтенант.
— Двадцать шесть, — не подумав, отвечаю правду.
— Ну, вот бы не сказал! А мне двадцать два… Небось в институте учился, отсрочку давали?
Я киваю…
— Товарищ лейтенант! — просовывается в дверь часовой. — Возле леса, кажись, фрицы появились. Побачьте….
Я вскакиваю, дрожащими руками всовываю дареный пистолет в свою кобуру. Всовываю, а он не лезет.
Михайлов быстро натягивает шинель. Когда я выбегаю на крыльцо, он стоит, широко расставив ноги, приставив к глазам бинокль. Потом протягивает бинокль мне:
— Гляди…
Из леса вытянулись и движутся к высоте три
темных полоски. И прежде чем успеваю сообразить, что это, лейтенант говорит:
— Пустили передом взвод. Видишь, идут по отделениям. Объявляй тревогу…
Я врываюсь в комнату, где мы так уютно беседовали, и кричу:
— Тревога! По местам!
Люди просыпаются. Расхватав оружие, моя рота вываливается наружу. На соломе остается красный матерчатый кисет и винтовочная обойма с четырьмя патронами.
Коротенькая цепочка моих солдат на снегу перед мельницей. Я вижу их спины, широко раскинутые ноги в обмотках, — сапогах, валенках. Короткие черточки — стволы автоматов. Хищные силуэты пушек. А в бинокль уже видно, как, проваливаясь по колено в снег, движутся вражеские солдаты.
Мы с Михайловым на мельнице. В ее кирпичной стене пробиты дыры, из них открывается прекрасный обзор.
Немцы идут. Мои солдаты лежат. Михайлов молча смотрит в бинокль. Что делать? Я ведь командую ротой…
— Стрелять надо, — неуверенно говорю я.
— Зачем? — отзывается Михайлов. Он на минуту опускает бинокль. — Этих положить мы всегда успеем. Знать бы, сколько фрицев в лесу…
Михайлов улыбается, хотя я понимаю, что ему совсем не весело, он улыбается для меня.
— Не дрейфь, Володя, отобьемся, — и снова приникает к биноклю.
Не дойдя до мельницы примерно полкилометра, фашисты, которые прежде шли гуськом, один за другим, разворачиваются в цепь. Так идти труднее, и немцы движутся медленнее. Я уже различаю глубоко надвинутые каски и блекло–зеленые шинели.
— Пора, — спокойно говорит Михайлов.
— По наступающей пехоте противника, — кричу я, выскочив из мельницы. — Пояс. Прицел…
Мои солдаты открывают огонь, не дождавшись конца команды. Прицел им, очевидно, известен и без меня. Михайлов, схватив меня сзади за ремень, рывком втаскивает под укрытие толстых кирпичных стен.
— Ну, чего выставился! — ругается лейтенант, — Прямо Багратион какой‑то. Из мельницы, что, голоса твоего не услышат? Это тебе не полигон в училище….
Раскатисто и глухо бьет станковый пулемет. Звонко, короткими прицельными очередями стреляют автоматы, Немцы словно вжались в снег. Их почти незаметно. Однако больше половины лежат на виду, неподвижно. И я не могу оторвать от них взгляда. Я смотрю на людей, которых убили по моей команде.