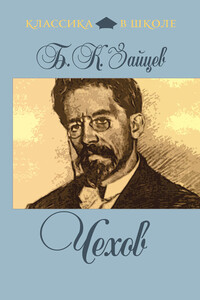Аким с Панкратом Ильичом укладывались спать. Тихо было за тяжелыми гардинами, на пустынном дворе пустой фабрики. Ване казалось, что вообще никого нет больше — он да Алексей Иваныч. В покорности положил он свою голову на постель, у ног Христофорова. Так было лучше. «Ну вот, — говорил вид его, — пред тобой. Один я здесь, и не уйду».
Христофоров зашевелился. Ваня подал ему стакан теплого чая. Тот отхлебнул.
— Где это я?
Ваня объяснил.
Христофоров взял Ванину руку.
— Хорошо, что ты со мною. Лучше. Веселее.
— Алексей Иваныч, — сдавленно сказал Ваня, — зачем вы… зачем вы тогда… вмешались?
— Не помню. Так, значит, надо было. А ты… жив? Совсем? Ну слава Богу.
Он продолжал держать его руку в своей. Ваня заметил — в первый раз он назвал его на «ты».
Христофоров молчал довольно долго.
— Ты молодой… Тебе жить. Совсем молодой.
Ночь шла медленно и тяжело. Христофоров сильно страдал, хрипел, задыхался. По временам бредил и бормотал.
Очень поздно — Ваня думал, что уже перед рассветом, но в действительности до рассвета было далеко — Христофоров вдруг обеими руками потянулся к Ване. Тот над ним наклонился.
— Живи, живи, хорошо живи… меня помни.
Когда поднялись Аким и Панкрат Ильич, Христофоров лежал с правильно сложенными руками и закрытыми глазами. Ваня причесал его своей гребенкой. На лице Вани, побледневшем и осунувшемся, остались сухие размывы слез.
Увидав Христофорова, Панкрат Ильич перекрестился, низко ему поклонился.
— Эх, Алексей Иваныч, милый человек… Ни за понюшку табаку!
Потом обернулся к Акиму:
— Не к нашим временам, нет… Ныне зубы надо волчьи.
А когда старуха взялась обмывать тело, он заметил:
— Ехать же нам надо незамедля. Опять оттепель. Часа пропустить нельзя. Распустит, и домой не доберемся.
— Поезжайте, — сказал Ваня. — Я до похорон останусь, все равно.
Панкрат Ильич посмотрел на него, хотел что‑то сказать, но не сказал. И молча пошел запрягать своего мерина.
Пюжет, авг. 1926
I
Через два дня как выпал снег, когда в комнатах стало светлее и вместо тряской, мерзлой земли розвальни заскользили по белеющей прохладе, когда запахло до слез остро снегом и пронзительно–горестно выступили свинцовые дали, — в деревушке Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человек огромный, вялый, с грыжей, с большим носом, рыжеватой бородой, привык ничему не удивляться. Он неторопливо копошился у розвальней, ладя по–новому оглоблю, когда высокая, тощая баба окликнула его.
— Мы самые и есть, — ответил Лев, с усилием, изо всех сил затягивая петлей веревку. — А ты кто же будешь?
— Что ж, милок, или меня не узнал? Еще Матюшкина‑то вдова, вашего же, кочкинского? А как я теперь без пропитания, да бабка на руках слепая — разрази ее Господь, — да Мишка несмышленый, жрать‑то нечего, прямо как рыбочка бьешься…
Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голосом, но всхлипывала искренно.
— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбежала…
— Та–ак… — Лев равнодушно почесался. — Матюшкина вдова. Да он что ж у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городе околачивался.
— Как так околачивался? Забыл ты все, милок, и меня, тетку Авдотью, не признал…
— Тебе чего же надо?
За плечами у Авдотьи висела котомка. Худа она была до чрезвычайности. Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.
— Как чего? Вы‑то небось барскую землю забрали, а ведь я тоже обчественная, как рыбочка бьюсь, бабка слепая, Мишка несмышленый…
Дело было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотела, чтобы ей прирезали земли. Лев это сразу понял, но сначала сделал вид, что не понимает, а когда долее не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и правда, взяли землю у господ, но ее стало даже меньше. Лев Головин глубоко был уверен в правде своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она отвечала десятью, бледные ее губы дрожали, мужской голос хрипел свое, она пристукивала палкой и плотнее наседала на Льва.
— Тогда уж надо обчеству… как обчество тебе решит, так и быть.
Под тогда Лев разумел: если уж ты такая стерва, что от тебя мне не отделаться, так пускай общество отделывается.