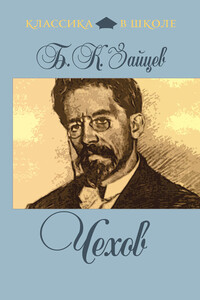— Впрочем, господа, вы поосторожней, — сказала Маргарита. — Здесь добрый провинциал; разумеется, он за всех этих господ Станиславских, а? За евреев, кадетов? Недавно мне рассказывали — знаете? — об одном любителе этих жидовских искусств — у него над кроватью Милюков[171] висит, как икона. Говорят, для большего либерализма он красное dessous[172] носит.
Маргарита засмеялась неприятным и, как Павлу Иванычу показалось, надорванным смехом. Что‑то было в нем больное. Точно и не так смешно ей самой, и до Милюкова мало дела, и до того господина, что якобы носил пурпурные кальсоны. Но надо было нести роль остроумицы.
— Ты, мне кажется, какую‑то чепуху рассказываешь, Маргарита, — остановил ее Павел Иваныч. — Например, выходит, будто Станиславский из евреев?
— Каков? А? Чепуху, мол, говоришь?
Маргарита совсем оживилась и будто даже забыла о неприятном разговоре про мужа.
— Это называется срезал, с толстовской прямотой. Понимаете, человек земли: явился, посмотрел и срезал.
Молодой Поздюнин, «будущий министр», с самого начала удививший Павла Иваныча необыкновенной размытостью кожи, гладко зачесанными на пробор волосами и таким выражением удобных, серых глаз, точно и они у него причесаны, возразил в том смысле, что хоть Станиславский не еврей — этого никто не утверждал, — но связь Художественного театра с интеллигенцией, а отсюда и еврейством — несомненна.
Павел Иваныч покачал головой и не стал спорить. Не потому, что считал свою позицию слабой, а просто ни к чему было: не хотелось. Молодой человек понял. Быть может, принял за неучтивость, и замолчал сам. Впрочем, некогда было бы и спорить: пробило шесть. Туркестанова, шурша, встала. За ней поднялся и будущий министр.
Павел Иваныч тоже собирался трогаться. Маргарита удержала его.
— Погоди, подожди немного, жидо–кадет. Не хочешь ли со мной одной посидеть, а? Хотя бы в гостиной.
С уходом гостей Маргарита как бы ослабела; спустила тон, что‑то усталое показалось в ней. Они перешли в гостиную. Тут было сумрачно, закат, красноватая мгла наполняла комнату. Топился камин. Маргарита не зажгла света, уселась к огню. Павел Иваныч тоже. Он закурил, пускал дым и смотрел, как он втягивается в камин.
— Ты почему захотела, чтобы я остался? — спросил он.
Маргарита сидела в кресле несколько нахохлившись.
Длинной ногой в лакированной туфельке, заложив ее на Другую, она слегка покачивала у каминной решетки.
— Мне к тебе никакого дела нет. Если хочешь — уходи.
Павел Иваныч смягчился.
— Да, конечно, дела нет. Я и не думал, что дело.
Маргарита помолчала. Потом произнесла:
— У меня сегодня страшная тоска. Мне и не захотелось одной оставаться. У меня бывают такие приступы. А?
— Это тяжело. Что же, часто случается?
— Я тогда бываю зла как дьявол. А потом впадаю в изнеможение.
— Ты, пожалуй, очень себя разматываешь со всеми этими… твоими.
— Варвара — дрянь известная. Нашла время говорить. Завтра годовщина смерти Георгия.
Она опять помолчала. Вдруг замурлыкала:
Mon coeur, qui bat, qui bat, qui bat,
Je ne sais pas pourquoi!
[173]Тут она язвительно, горько улыбнулась.
— Я не зря в театре назвала себя Пиковой дамой. Я действительно на нее похожа. Я вся погружена в прошлое, — прибавила она более сухо, с металлическим оттенком голоса. — Хотя мое прошлое было ужасно мучительно, а? — но я о нем думаю, и жду смерти. Таковы мои занятия.
— Если так, мне тебя жаль.
— Понятно, ты добрый человек, так и пожалеешь. Чтобы пожалеть la Dame de Pique, надо быть даже очень добрым?
— Не гаерствуй и не впадай в свой… странный тон.
— Я завидую людям, — сказала Маргарита, — которые, как ты, спокойно, хорошо чувствуют жизнь. А я не могу. В конце концов ты действительно не злой человек, и надо мной не посмеешься у себя в Тамбове, а? Или посмеешься? Нет, пожалуй, и не посмеешься. Я говорю тебе поэтому: мне ужасно скверно было жить. Варвара — дрянь, но она правду сказала: Георгия очень любили женщины. Он от меня все же не уходил. Но я его жестоко тиранила… ах, как тиранила! Себя тоже. Он мне изменял постоянно, это факт.
Она встала, прошлась немного, слегка прихрамывая, и потом опять остановилась у камина.